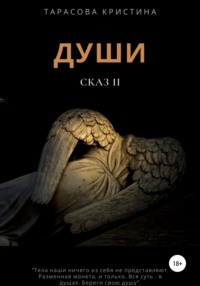
Души. Сказ 2
– О чём ты, Луна?
Он знал моё имя.
И поймал растерянный – то намеренно – взгляд.
Конечно знал, глупая.
– Быть со мной любезным, – объяснилась я. – Вы не должны.
– Должен, Луна, – настоял мужчина. – Ведь разговариваю с хорошей девушкой. Ведь уважаю тебя и уважаю себя; уважаю свой выбор. Скажи, – Гелиос откупорил бутыль и, наполнив бокал, позволил пригубить – едва-едва; словно бы проверяя соответствие вкуса названию, – ты влюблена? сейчас или, может быть, была?
– Да. – Я остановилась. – Нет. – Ещё раз. – Я не знаю…
Резко выдохнула и встретилась с ненавязчивым смехом. Добрым. А сама захотела признаться, что ныне ощутила себя речью не владеющей. И призналась.
– Вы тоже так думаете?
– Расскажи об этом, – аккуратно подступил мужчина. – Если можешь и если хочешь. Кто твой избранник или избранница?
Ян велел выбирать слова (если вдруг я не удержусь и что-нибудь взболтну), Ян велел выбирать друзей (другом он обозначил себя, иные у него значились в списке «не доверять», несмотря на списки «друзья» и «партнёры» с соответствующими там именами), Ян велел не забывать о наших общих целях (он – оферент (что бы слово это проклятущее не значило), а я – товар; такой симбиоз реален – исключительно и окончательно).
Но тогда – в тот момент – я ещё не простила содеянное им. Не могла принять и понять; ведь он отдал меня. Передал из рук в руки и, едва чертыхнувшись, пропал, хотя я до последнего думала: вернётся. Вернётся, выхватит, освободит. Но это не Ян, нет. Не кто-либо. Кто-либо и что-либо – это сложившееся. То, что случилось – вот правда. И я всё ещё была на неё обижена.
– Это Хозяин, – призналась я. – Он мне нравится. Или нравился, не знаю.
– …но?
Что значило «но»? Как его следовало понимать?
– Мы все его послушницы и мы все для него одинаковы: любимы, однако недоступны. А он человек порядочный, – утвердила я и по привычке закинула ноги на диван, от волнения сминая подол платья. – Простите, это не то, о чём мы должны говорить.
– А о чём должны? О чём можем? – интересовался спокойный голос, но не давал проскользнуть ни единой секунде неловкой тишины, приступая к гласу: – Тогда слушай меня.
И он рассказал, каким богом является.
Солнце – клан традиций и порядка. Дела Бога Солнца – производить свет.
– Метафорично, разумеется, – посмеялся Гелиос и сел подле меня – не рядом и не далеко (касаться и одаривать теплом дыхания – нельзя, прильнуть и остаться – можно).
И беседа дурачилась меж обычным вещами, меж бытом и ситуациями, людьми обыкновенными и людьми по принуждению/судьбе/року божественными.
– Какого это быть Богом? – протянула: ни без яда, ни без мёда.
– Как и Человеком, – зудел мой собеседник и тянул в ответ бокал. – Трудно, но интересно. Со своими преимуществами, со своими недостатками.
– Единственный недостаток Бога в том, что он – тот же человек, – швырнула наотрез. И тут же пожалела об этом. Стоит молчать, Луна, тебе стоит молчать. Держи рот закрытым. Закрой рот.
Но вместо того я открыла его и нахраписто приложилась к напитку. Мужчина похвалил за сообразительность. Я думала, он будет зол. Странный. Мы присматривались друг к другу: оценочно глядели и выуживали настроение и реакции на слова и действия. Мы изучали друг друга. Поняла я это, правда, не сразу.
– Почему ты сказала, что не знаешь, испытываешь ли чувства? – спросил Гелиос и расслабил змеиную петлю на шее.
– Потому что до вашего вопроса была уверена в их наличии. После озвученного – появились сомнения.
– Если хотя бы горсть шаткости, нетвёрдости орошает симпатию – это не истинная симпатия, – заключил мужчина и осторожно потянулся к опустевшему бокалу. – Позволь…?
Не спрашивал, добавить или нет. И не принуждал. Делал так, чтобы я сама отдавала бокал на возглас. Спросила, откуда его уверенность (по теме беседы). Гелиос произнёс нечто на старом наречии. По кусочкам – три слова. Первое – гласное, второе – трубочкой протянутые слоги, заключительное – размыкающиеся челюсти; что могли значить эти слова? звучали прекрасно.
И собеседник мой пытался объяснить истинность фразы. Так, пояснял он, люди пытались докричаться до людей, когда слов и действий не хватало, а сообщить о перекраивающих внутри чувствах несомненно хотелось. Так, пояснял он, люди очерчивали одних людей (для себя) и других (от себя). Так, пояснял он, можно было сделать человека своим, одарив ликованием, или вовсе оттолкнуть его, заселив бесконечную тоску на сердце при отсутствии ответного.
Я расслабилась: плечи спокойно прилегли к спинке дивана, а колени перестали биться друг о друга. Спокойный голос укачивал колыбельной.
– То значило любить, – говорил Гелиос; в руках у меня оказался третий бокал. – Тебе знакомо определение влюблённости, верно? – мужчина повёл бровью и расстегнул верхнюю пуговицу рубахи; в комнате действительно было жарко. – Убери пару частей, немного подкорректируй (благо, все слова одинаковые и строятся схоже) и получишь выкинутую из употребления Любовь: ту самую, к человеку.
И, пояснил он, если то ощущаешь – «любовь», – сомнений быть не может. Они не возникают. И Гелиос спросил другое:
– Любишь ли ты?
– Нет, – без промедления ответила я. – Чувство, о котором вы говорите, мне неведомо.
– Значит, – заключил мужчина, – всё намного проще.
И я пустилась в спор, что проще – это определенность: скупая и сердитая; неизвестность – а всё у нас под эгидой неизвестности – утомительна.
– Для молодого сердца нет преград. Одна влюбленность сменяется другой, и то нормально. Дорогу находит идущий.
Я отстранила в очередной раз опустелый бокал, а на предлагающий очередной напиток взгляд жестом показала отрицание: вдруг он – как и Ян – проверял меня? наблюдал и, внутренне злорадствуя, ликовал?
– Почему же люди отказались от таких красивых слов?
– За неимением соответствующего в жизни.
– Почему же об этом говорите вы?
– Душа романтика, – посмеялся Гелиос и тут же забыл о сказанном. – Потому что, если бы твоё сердце принадлежало другому мужчине, я бы не сделал того, что сделаю.
– Что же? – быстро спросила я.
Быстро и глупо. Для чего ещё мог прибыть этот человек? Стоило сообразить раньше, Луна! Да, именно сообразить. И не растекаться каплей по комнате, ибо трезвость в словах и убеждениях должна присутствовать даже в нетрезвой голове. У тебя, Луна, договоренность с Яном: и ты её опрометчиво спустила на нет, позволив случиться личным беседам и поспешным словам.
– Не хочу принуждать, – объяснил Гелиос. – Не хочу обижать и заставлять. Ты заслуживаешь иного, прекрасного.
– Вы можете, – перечила (но зачем?) я. – Можете это сделать, можете себе позволить.
– Мог кто-либо другой, не я. У меня свои принципы, а принципы, – вехи, которые будут держать правды и неправды век от века. Понимаешь?
Разумеется. Принципы одного сгубили и меня, и его обладателя, принципы иного – залечили и приласкали.
– Для тебя, Луна, этот раз будет особенным, – продолжил мужчина. – Ты не знакома с таинством Любви, а потому запомнишь – от и до – обличение тайны. И мне бы хотелось, чтобы то открылось с лучшей стороны. Ты заслужила.
Сам мужчина к напиткам не притронулся. Предполагаю, что ощущения от чего-либо приятней на трезвую голову, воистину. Он желал помнить: видеть и наблюдать, очерчивать в памяти и – опосля – воспроизводить. Он желал помнить, я же – забыться. Наверное, потому мы ощутили спокойную связь.
– Мне хочется видеть желание, а не вырывать это желание обстоятельствами. И уж тем более силой.
Последнее он сказал оскорблённо; и по отношению к себе, и по отношению ко мне. Я чертыхнулась и спрятала взгляд (всё-таки смущение – вопреки словам Отца – мне знакомо) в нависающей на окно гардине. За алой тканью виднелись металлические прутья, отделяющие Монастырь от Мира.
– Время перекусить, не находишь? – воскликнул Гелиос и резво поднялся.
Побрёл к столу у изголовья кровати (где находилась ранее бутыль) и вгляделся в поднос с закусками, на котором веером лежали клиновидные раковины.
– Устрицы и сыр. Оригинально, правда?
Я не ответила. Не ответила, но взгляд перевела – значит, пришёл к выводу мужчина, проявила любопытство. Разрезал раковину – названную устрицу, две равные части размыкались подобием ног и жидкость сочилась до пальцев – не брызнула, не успела. Бог Солнца запрокинул её и испил, довольно причмокивая и убеждая попробовать.
Немым жестом я согласилась.
Вторая раковина прыгнула меж сухими пальцами; разомкнулась. Мужчина склонился ко мне и поднёс мидию к губам – я же отстранилась и бросила уверенное:
– Могу сама!
– Можешь. Но какое в том удовольствие?
Рот послушно открылся: залил. Тягучее и упругое мясо скользило по языку, оставляя жирный вкус. Закрыла глаза и с трудом проглотила.
– Ожидала ты иного, верно? – забавлялся Бог Солнца, и лицо его украшала улыбка – не насмешливая, не чуждая. А моё лицо боролось с судорогой от незнакомого.
– Не самый лучший опыт. Это… – я пыталась приноровиться ко вкусу, застрявшему на языке, – …это точно можно было глотать?
Мужчина улыбнулся.
– На любителя. Без установок.
– Какой от них толк, если они такие склизкие?
– Устрицы – чудесный афродизиак.
– Даже не знаю, хочу ли знать, что это.
И Бог Солнца склонился к моему лицу, чтобы нашептать ответ. Щека пригрела щёку, а тёплый воздух обдал мочку уха; хриплые слова опустились до живота. Принцип работы этой съедобной дряни – аналогичен. Однако запах…я уловила сладкие ароматы (на то обратил внимание мой собеседник).
– Сливочный мускус, – сказал он. – Нравится?
– Очень.
– Тоже афродизиак.
– Вы раскрываете все свои карты?
– Ты можешь делать вид, что не понимаешь.
– Зачем?
Взяла интонацией и оторопевшим взглядом; уверенности прибавил наконец расплывшийся по телу алкоголь.
– Потому что это игра, Луна. Всё, что делают мужчина и женщина по отношению друг к другу – игра.
И Бог Солнца пожелал поправить мои волосы – аккуратно, ещё больше подставляя благоухающий рукав рубахи.
– Разреши?
– Разрешаю.
– У тебя очень красивые волосы, Луна, – говорил мужчина, откидывая выпавшую прядь и смахивая с плеча – словно бы лёгким касанием – выбившихся приятелей, – в клане Солнца все блондины – мраморные, платиновые. Я же седой головой награждён в силу прожитых под солнцем лет, но – раньше – тоже был таков. Всегда смотрел на светлые головы и предпочитал их по крови, не подозревая, что чёрные – вороные – могут так увлекать.
Концы вились на его кулаке. Я следила за мужским взглядом, ласкающим взглядом.
– О чём же вы думаете, Бог Солнца? – спросила я.
– Лучше не знать, Луна.
– Вот как? – фальшивое удивление.
– О таком не принято говорить. Показать – дело другое.
Его интонация…такая близкая, такая липкая, такая раздевающая. И голос…укачивающий, медитативный.
С испуга – вдруг – я оборвала касание собственным движением: дотянулась до столешницы и взяла бокал. Бокал встал меж говорящими.
– Я добавлю, – обронил мужской голос и ускользнул к бутыли.
Всё понял. Понял, что я не справилась: струсила и отступила. Играть у меня не получалось.
Напиток брызнул в пустое стекло. Я выпила. Выпила и попыталась успокоить обезумевшее сердце. Луна, пора прекращать. Прекращать лакать снадобье из спирта и ягод, прекращать тупить взор и тянуть время, прекращать слушать человека, который купил твоё тело, а не твои мысли и чувства. Ему интересен опыт – то есть его отсутствие, а не прошлое, которое привело к вашей встрече. Прекращай, Луна.
– А вы почему не пьёте? – спросила я, едва дойдя до дна.
– Тебе ответить честно или красиво? – улыбнулся Гелиос.
– Давайте договоримся. Говорить только правду.
И мужчина смаковал ответ на собственных губах, приглядывался, очерчивал.
– Не желаю притуплять чувства. Не хочу нарушать один вкус другим.
И поймал ещё большую растерянность на моём лице.
Я бы добавила причину иную: внесена слишком большая плата, чтобы отправлять это в забытье.
– О чём же думаешь ты, Луна? – спросил мужчина и протянул ко мне руку – пальцами замер у лица. – …разреши?
Мне нравилось, как своевременно притуплялась его напористость, но не переставала при этом быть уверенностью. Потому я кивнула, на что горячие отпечатки нарисовали линии по щеке.
– Думаю, как бы не думать, – призналась немедля. Добрый взгляд просил продолжения. – Думаю, вы говорите эти слова каждой девушке, но потом думаю, могли бы молчать вовсе. Что есть правда?
– А что именно ты хочешь узнать? – пыткой давил собеседник.
– Вы беседуете с каждой? Много их было?
Гелиос неловко, но очень поспешно улыбнулся. Решил, наверное, что вопрос навеян наивной и неоправданной ревностью, присущей всем женщинам ко всем (даже не к своим и даже к незнакомым) мужчинам. Или что о нём напели другие послушницы. Но они не пели. Все молчали. И Хозяин Монастыря в том числе. Обыкновенно сплетни ласкали коридоры, но отчего-то утихли в последнюю неделю.
– А вот в этом, Луна, кажется, я не должен признаваться, – протянул Гелиос: рука его всё ещё находилась на моём лице. – Однако же если слова мои тебя утешат или успокоят, если они дадут мир твоей душе – ответ отрицательный. Не беседую. Не с каждой.
И я запутано выведывала причину тому. Удивительно, как, боясь обозвать вещи своими именами, мы придумываем им тысячу других (а я верила, что по подобному пути не двинусь). Но почему…? Боязнь обиды говорящего или пустотелая безграмотность? Может, личное неприятие…? А, может, отказ в то верить?
Гелиос ответил не сразу. Попробовал несколько ответов на языке. Бегло нахмурился. И нехотя говорил:
– Не знаю, коим образом спокойствие твоему сердцу принесёт упоминание иных девочек, Луна, но – истинно – девочки обыкновенно молчаливы и стеснительны. Да, так. Однако прытки и любопытны: а потому знают, что делать и делают.
– Простите, если разочаровала.
Однажды Мамочка плела мне о своевременных извинениях и взгляде, полным ропота и раскаяния. Возможно, то было применимо исключительно к Отцу, но попытаться следовало…
– Не разочаровала. Тебя же я боюсь обидеть, Луна, – заключил Гелиос. – Как ты смеешь извиняться за свой характер, за своё воспитание? Я, повторюсь, уважаю твой выбор. И свой.
И вот любопытство проявила я. Задорными – вмиг – глазами. А, закусив губу, получила лёгкую улыбку в ответ. Бог Солнца расценил это как сигнал.
– Я бы хотел провести с тобой ночь, Луна, – сказал мужчина (словно бы признался и до сего момента то – загадка). Правда рушилась лавиной: но я не боялась. – Узнать друг друга (нет, не пропасть спустя часы; такого не желаю), и провести этот вечер – прекрасный (он уже априори прекрасный, ибо я познакомился с тобой, Луна) – и провести следующую ночь – прекрасную – вместе.
На мою дрогнувшую с недоверием бровь он добавил:
– Ты вправе отказаться, а вправе согласиться. – Шагнуло время на раздумье. Давал ли этот человек возможность выбора без выбора? как Отец – для пустой формальности? или в действительности не наседал, а ублажал? – Ты можешь поступить подобно своей первоначальной прихоти (я запомнил этот взгляд у дверей) и сбежать. А можешь возлечь рядом со мной и впитать новые чувства. Твоё мнение поменяется, обещаю.
– Вы доверяете мне.
– Правда, – согласился мужчина, – ибо не вижу причин для обратного: зла я не делал и зла в ответ не заслужил. Я учтив с тобой и, надеюсь, то будет вознаграждено.
– Вновь раскрываете карты?
И он отвёл руку, а я секунду-другую тянулась следом. Мне хотелось удержать тепло, хотелось обняться с этим теплом. Всё, к чему привязывал Ян, было пыткой – приятной, но скоротечной и без продолжения. И мне – словно бы – стало жадно. Я захотела узнать продолжение. Я захотела испить этот сок до конца: не делиться и не отрывать стакан, к которому только что приложилась губами.
– Ты мне нравишься, Луна, – подытоживал Гелиос, и я видела в этих словах и в этом лице утоляющий жажду напиток.
– Что мы будем делать? – уточнила я.
Оценил игру? Прикусил её?
– Ничего из того, чего не пожелала бы ты сама, – с хрипотой выдавил мужчина; пальцы его наконец сдавили ножку бокала – словно талию; и та послушно плясала.
Сколько ножек бокала он заставил плясать? Не позволю!
Не позволю брать меня – без желания – и использовать – во благо своё.
А потому я подогнула юбку от платья и села мужчине на колени, грудью упираясь в грудь. Бокал чертыхнулся и оставил два помутнения на белоснежной ткани. Гелиос отбросил бокал на столешницу позади и придавил меня за талию. Я сбросила избитые касания и волчьим взглядом велела не двигаться. Потерянно и даже нервно сковала руки на своей груди, но затем – с раскаянием и желанием – вознесла их к мужчине напротив. И, касаясь его, прижалась губами к губам.
Потому что хотела.
Руки его разрезали пространство и послушно обхватили спину.
Так, как мне хочется. И только.
Я целовала его – суетливо; а он не торопился. Гладил лицо и руки; задерживался на них – скользил пропитанными единым глотком вина губами. Влага оседала на коже, и я запрокидывала от удовольствия голову. Губы вычерчивали змей на моей шее, спускались к груди и замирали у сковывающей ткани, зубы скоблили тесьму и швы.
– Не теряй голову, это только начало, – улыбнулся мужчина и, подхватывая меня, загляделся в смущённое лицо. Я помогла выбраться из пут одежды, он помог выбраться из пут мыслей.
Я делала это, потому что хотела.
Чувства чувствами и излечивают: отдушины в стороне – пелена на глазах. Дела, труды, занятия – мираж. Чувства чувствами и излечивают. Ими же и калечат, ими же и подбивают плиты отношений, внося произвол и разруху.
Мы провели ночь вместе, и в эту ночь – под её логическое завершение – я жалась к телу с запахом трав и тепла. Мужская рука обвивала половину тела, и я рептилией ползла по высеченной мраморным камнем колонне (несколько синих рисунков украшали плечо, локтевой сгиб и запястье, а самое главное – пылающее солнце – сияло опалённой краской на груди). Однако ни на что после повлиять я не могла: что сделано – то сделано. До последнего подтапливая мужской бок, молила ночь не оканчиваться, ибо с приходом дня солнце меня покинет. Оно в действительности взойдет на небосвод.
То было начало.
А сейчас я неспешно вышагивала по коридору поместья. Если некогда приёмная и кабинет Яна казались мне обителью красоты, то для величия этих стен, этих столпов, этих картин и гардин наименования, сполна отражающего суть зримой роскоши, ещё не придумали. Бордо с печатными ромбами ползут по стенам, босые ноги приминают густой ворс ковра, руки поглаживают золочённые ручки дверей. Коридор узкий: пыхтит вкусом и жаром. Я спускаюсь по хрустящей лестнице – первый шаг меня выдаёт; скрип ползёт до первого этажа.
Однако Гелиос звать или торопить не намерен. Крадусь – медленно и опасливо, с интересом и волнительным ожиданием, и вот, наконец, взглядом врезаюсь в мужской стан. Мужчина на кухне, часть которой виднеется с лестницы, за столом и спиной ко мне. На очередной лестничный хруст чайная кружка в его руке замирает, а сам он оборачивается в профиль. Лицо красивое, заострённое: часть выцветшей щетины отбрасывает тень на белоснежный воротник рубахи. Он живёт полвека, и седина его оправдывает возраст. Сухая кожа говорит о жизни на юге Полиса. Бледность напоминает о знатном роде.
В зале – соседствующим с кухней – отмечаю над камином необъятных размеров картину с изображаемыми на ней и похожими друг на друга людей. Я думаю, это семья Гелиоса, но самого Гелиоса признать не могу. Виной тому выцветшая краска и неестественно выбеленные лица. Во всей мебели высечены изображения солнца, мраморные барельефы украшают шкафы и стены. Что за вечное назидание-напоминание?
Я сажусь напротив мужчины, с трудом отодвинув тяжёлый стул, и гляжу на чашку под собой. Последние недели ничего кроме градусов я не употребляла – из-за того травяная вонь едко пощекотала ноздри.
– Угощайся.
Гелиос кивает на уготовленный напиток. Сделал сам…?
– Прислуги живут неподалеку, в домике с соответствующим названием, – решает проинструктировать он. – Это горничные, посудомойки и садовник. Еду на день готовит Амброзия, а потому, если увидишь полную тётку с ножом в руках, не кричи: это наша кухарка.
Прыскаю со смеху в кулак.
– До завтрака она уходит.
– Поняла.
– А девочка, что сопровождала тебя в пути, занимается уборкой и стиркой. Мэри. Её сменяет Патриция – с аналогичными обязанностями. Как видишь, подруг у тебя может быть достаточно.
– А друзей? – хмыкаю я.
От глупости и для забавы.
– Твой друг ныне я, – прижигает мужчина. Неожиданно, ибо (по его словам) он выкупил свободу и иное не беспокоило. Пояснения выплывают следом: – Несмотря на специфичность наших супружеских отношений, несмотря на нашу договорённость…ты всё равно моя. Моя. Клана Солнца. Достойная и уважаемая женщина, соответствующая имени мужа.
– Разумеется, – быстро соглашаюсь я.
И затем спешу оправдаться: попросту хотела узнать обо всех слугах в доме.
– Садом занимается Патрик (брат Патриции), а за транспортом ухаживает Гумбельт (немой работяга, и потому не пытайся его разговорить: физически то невозможно).
Киваю: всё поняла. И взглядом очерчиваю кухню в рыжем дереве. Рядом с узкой дверью, ведущей на улицу с торца дома, стоит корзина, полная свежих овощей. Узнаю, что доставка случается раз в несколько дней. Когда самого Гелиоса не будет дома, в мои обязанности входит встретить машину, получить еду и энергично расписаться в протягиваемом бланке. Ловко умалчиваю, что грамота мне мало знакома.
Занавеска ловко отпрыгивает из-за потока ветра, ударившего сквозь распахнутое окно, и кружевной окантовкой касается чайника. Подле него разбросаны тканевые мешочки, в которых утаены высушенные чайные листья с ягодами и кусочками фруктов. Чаи Гелиос готовит сам. Я тоже могу научиться.
Всё это так…уютно, по-домашнему. И чуждо.
– Назови любимую еду. – Мужчина ловко переводит беседу.
– Вся любимая, – улыбаюсь я.
Всё нравится, чем не угости. Раньше с её разнообразием было худо, а потому любой аппетитный запах разжигает во мне интерес. Гелиос, должно быть, рассуждает об ужине. Думает, что подать к столу. Или желает угостить?
– Хорошо, – соглашается он. – Давай так. Не любимая, а особенная.
– Особенная? Инжир, – вспоминается мне.
Мужчина хмурится и добавляет:
– Где же ты, Луна, нашла на пустынной и, прости, облезлой монастырской земле инжир?
– Угостили.
В этом моя неразговорчивость утомляет. Вместе с дрогнувшим и поникшим лицом добавляет загадки.
– Пусть так.
Мужчина покидает место и велит обождать, уходит через узкую кухонную дверь на улицу и возвращается спустя несколько минут. В задранной рубахе он несет плоды инжира.
– Откуда? – радостно восклицаю я и принимаю чернильные пятна.
– В честь твоего приезда, – объясняется мужчина и затем – через окно – указывает на каменную дорожку, колесящую сквозь задний двор до зелёной арки с танцующими в ней пёстрыми розами. – Из сада. Он там.
У меня – словно бы – перехватывает дыхание. И я прошу показать этот сад.
Мы бредём под салатовым куполом: листва плотная, одаривающая благой тенью в самые жаркие из дней; сквозь эти шапки – едва-едва – так и норовят проскользнуть ненавязчивые и очень редкие солнечные лучи: они касаются земли и нагревают дорожку. Деревья обнимают друг друга своими кронами: так они велики и близки. Ни единый сучок не нарушает идиллию изображаемого, все веточки на своих местах – усмирены и личной миссией награждены (миссией создания забвения и красоты). На плечо мне приземляется рухнувший (а, может, решивший приласкаться) крохотный бутон цветка. Я снимаю его и, поцеловав, закладываю в волосы. Любое – даже самое крохотное, самое юное – создание, взращенное Землёй должно быть награждено. А этот, покинувший отчий дом, сорванец лимонного цвета заслужил особую награду за свой сумасшедший, но направленный на благоговение, прыжок.
Теневой сад сменяется – через калитку-малютку – кустарниками и прудом, над которым нависает одно-единственное могучее дерево, отчего часть воды приятно сокрыта. Всё остальное разве что не искрится от чудесного солнца, пригревающего каждого жителя сада.
Я оборачиваюсь на мужчину, позволившему мне двигаться чуть впереди, и спрашиваю разрешения. Он, закладывая руки в карманы и отводя взгляд, отвечает, что я могу забавляться здесь, как пожелаю. И я желаю скинуть, наконец, сандалии (узкие и натирающие), которыми меня подкрасили при выходе из Монастыря, и сигануть в воду. Подол платья парирует над голубой гладью, ибо я крепко сжимаю его в руках, но, едва намокнув миллиметром края, плескается вместо со мной. Изнуряющая духота пропадает. Пруд неглубокий: дальше щиколоток не погружаюсь.

