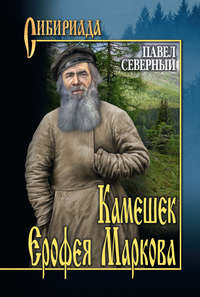
Камешек Ерофея Маркова

Павел Александрович Северный
Камешек Ерофея Маркова
Посвящаю сыну Арсению Павловичу
© Северный П.А., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Сайт издательства www.veche.ru
* * *Глава первая
Наступил девятнадцатый век. Казалось, по Российскому государству годы проходили прежним неустанным, размеренным шагом. В очаровании летних ночей, под шелест листвы на березах они слушали соловьиные трели, в позолоте осенней поры дрогли, исхлестанные вицами затяжных дождей, под лихие высвисты метелей коченели в сугробных снегах, а потом вязли в грязи весенних распутиц.
Но не эти внешние приметы обозначали вехи противоречивого, не скупого на драматизм девятнадцатого века России. И до нее донеслось эхо очистительной грозы Великой французской революции – провозвестницы совсем нового уклада жизни.
Россия шла столбовой дорогой истории, и на ее бескрайней, исконной земле послышались гудки первых паровозов и пароходов, а в городах и промысловых селениях привычное спокойствие все чаще и чаще нарушалось шумом паровых двигателей и механических станков – то было начало промышленного переворота в России..
Девятнадцатый век…
Волею дворян на трон Российской державы садились, по праву наследования, коронованные вершители ее судьбы. Не угодив дворянам, переставали царствовать, оставляя для истории свои портреты. У каждого царя была своя повадка зажимать в руках скипетр и державу. И для народов России, как и в былые века, цари не распахивали ворота в вольную жизнь, а под дворянский шепоток навешивали на них все новые и новые мудреные замки, ключи от которых самодержцы умышленно теряли.
Династийные хозяева государства, по канонам векового самодержавия, по сговору с дворянами, надумывали для людей труда путаные пути-дороги с глухими тупиками. Силой царской и барской власти, благословленной церковью, гоняли по ним народ в хомуте крепостной неволи.
Все видел вокруг себя трудовой люд, кроме нужных ему радости и счастья жизни. Не мог он отыскать справедливость для себя ни среди белых колонн дворянских усадеб, ни среди лампад, освещавших лики Христа на иконах, а ведь он искал правду с милосердием к себе не одно столетие, изнемогая под тяжестью страданий, возжигая грошовые свечки чистого воска перед святителями, не теряя надежды найти надобную ему правду.
Крепчал ветер неотвратимых политических перемен. Русский народ забывал о смирении, он рвал крепостное ярмо и в девятнадцатом веке утверждал свою жизнь под первые вспышки зарниц смелых дерзаний в борьбе за волю. Патриотический подъем духа народа, вознесенный Отечественной войной 1812 года и освободительными походами в Европу, дал новые побеги национального самосознания…
Шел девятнадцатый век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. В стране непостижимых возможностей сильный, мужественный народ пытался вырваться из пут крепостной кабалы. Разбуженные этой борьбой, лучшие люди из дворян, презрев свои привилегии, с оружием в руках поднялись декабрьским днем в столице Российской империи против самодержавия и крепостничества…
* * *На Каменном поясе за прошедшие сто лет, в один ряд с историей всей страны, по лесным, горным и водным дорогам история Уральского края промяла свои особые следы косолапьем медвежьей поступи.
На Каменном поясе эхо шествия девятнадцатого века по государству усиливалось грохотом молотов и неумолчным шумом лесов. И в Уральском крае люди знали о жизни в стране, беспокойные вести заносили ходоки. На Урале знали, что за Камнем у работного люда та же беспросветность неволи, те же высвисты плетей, намокших от крови. Только на Каменном поясе барская ненависть скорее запарывала плетями человека насмерть. Урал в начале века служил оплотом крепостничества в российской промышленности, но и здесь поднималась мускулистая рука работного люда против угнетения.
В майское двадцать первое утро тысяча семьсот сорок пятого года на Урале нашлось свое, русское золото.
Оно нашлось в пору, когда в Екатеринбурге уже не было Василия Никитича Татищева. Его провидческая мечта об уральском золоте далась в трудовые руки горщика Ерофея Маркова. Это ему посчастливилось в Березовском логу выковырнуть из шурфа «скварчик» с вкрапленными в него крупицами неведомого до этого в крае желтого металла. Сам Ерофей не сразу догадался, что отыскал новую драгоценность. На огне из камешка кварца крупицы расплавились и вытекли, а остыв, заблестели первыми золотыми слезами Урала.
Орава иноземных бироновских ворюг, вершители казенного горнозаводского дела, – бритоусые саксонцы больше всех испугались находки Ерофея Маркова. По их замыслу, Россия не должна была иметь собственного золота. Они пытками на допросах смяли житейскую радость Ерофея. Два года мучили горщика только за то, что он без их ведома осмелился взять в руки золотое чудо Урала.
Ерофею Маркову судьба улыбнулась лишь перед смертью: академик Михаил Ломоносов за ним утвердил чудесную находку, подарившую несметные богатства Российскому государству…
Шел девятнадцатый век.
Сквозь уральские чащобы продирались годы, сутулясь под тяжестью лыковых пестерей с летописями и преданиями…
За неровной походкой беспокойного времени следили зоркие глаза работных людей, все более осознававших, что подлинные страницы уральских летописей, преданий слагались их разумом и трудом.
Глава вторая
1В Екатеринбурге, окоченевшем от зимней стужи, как и по всей необъятности Российской империи, наступил новый, тысяча восемьсот тридцать седьмой год.
В сумерках похмельного дня с шиханов Таганая нежданно задул буранный ветер. Свое стихийное буйство по городу он начал разводить исподволь и только к девятому часу довел разноголосое вытье до полной силы.
Ветер бешеными порывами с посвистами закручивал на сугробах волчки и веретена вихрей. Он стелил по сугробам сметаемые с крыш косматые снежные бороды, заволакивал улицы, переулки и площади непроглядным, колючим туманом.
Погасив на плотине огни в скворечниках фонарей, ураган с неудержимой силой сгонял снежные тучи к берегам пруда, наметая шевелящиеся сугробы.
Еще недавно зримо стоял богатый уральский город – и вдруг исчез в буранной темноте. Только ночные караульные дробным клекотом колотушек напоминали о его существовании.
Неподалеку от плотины высокая чугунная ограда опоясывала каменные хоромы именитого заводчика Муромцева. Возле ворот стояла полосатая будка, наполовину заметенная сугробом, а в ней, укрывшись от бурана, нес караул будочник Емельян Крышин.
Старика одолевали тревожные думы. Сначала он разговаривал сам с собой, потом стал напевать солдатскую песню, но ни тем, ни другим не мог отогнать беспокойные мысли.
Кутаясь в собачью ягу, Емельян смотрел, как крутится снежный туман возле освещенных окон в правом крыле барского дома.
Тревожность взяла в полон разум Емельяна за неделю до Нового года. Все началось с того, что довелось ему на базаре встретить Мефодия из Верх-Нейвинска. Сказывал тайно ему Мефодий, что будто из острога Верхотурья бежал бунтарь. Бежал не кто-нибудь, а тот самый литейщик из Каслей, по зачину коего вовсе недавно взбунтовались рабочие люди сперва на Юрезанском заводе, а далее и на рудниках, приисках. Весть захолодила всего Емельяна. Еле шел с базара: плохо повиновались ноги, словно размякли в них кости. Да как было Емельяну не перепугаться. Литейщику-то имя Савватий. Савватий ему племянник. Сын младшего Емельянова брата, доменщика, рано отдавшего богу душу от сердечной болезни. Крышин гордился племянником – рабочий человек Савватий сыскал по Камню добрую славу мастерством на хитрое и замысловатое чугунное литье. Однако еще большую славу он заслужил у крепостного работного люда на заводах, рудниках и приисках своим непокорством господскому притеснению.
Дважды садили Савватия в острог за неуемное стремление найти правду для рабочего люда на горнозаводском Урале.
Дважды садили, а он всякий раз самовольно освобождался от острожных желез. Вот и теперь, смотри! сидел в самом крепком верхотурском остроге. Страшны там подземные казематы. Но Савватий и из него ушел, опять на воле.
Рад был Емельян, что племянник живым отыскался. Нынче одолевает старика беспокойство: не убережется Савватий на воле, попадет в руки земской полиции, тогда уж не миновать ему смерти.
Тягостны старческие тревоги. Бьет Емельяна озноб – не от стужи, а от мыслей о судьбе Савватия. Думает старик, где племянник сейчас, в тепле ли в эдакую непогодь? Сыт ли? Думает старик, прислушиваясь к вытью бурана, к едва доносившемуся стуку колотушек, лаю собак на псарне барского двора.
Пересиливая озноб, Емельян утоптал сугроб перед будкой, стал бродить возле нее, увязая в снегу. Ветер рвал полы яги, раскидывал их, как крылья, швырял в лицо колючий снежный фирн. У старика перехватывало дыхание, начинал душить кашель. Кашлял Емельян надрывно, у него ломило в плечах.
Осилив приступ удушья, старик вдруг услышал совсем близко стукоток колотушки, подумал, что это соседский караульный Дементий, и, обрадовавшись, крикнул:
– Хто тута?
Колотушка брякнула за спиной.
– Ты, что ли, Дементий?
Уловил знакомый голос:
– Где ты? Не угляжу тебя, дружище.
– Тутотка я. На меня идешь.
Дементий столкнулся с Емельяном, и оба захохотали.
– Сшиблись, стало быть?
– Ладно, что не лбами. Пойдем в будку. Держись за меня.
Утопая в снегу, добрались до будки. Втиснулись в нее.
– У вас по какой притче свет в окошках? – допрашивал Дементий.
– Гостенек у барина.
– Кто такой?
– Под стать нашему. Юрезанский живоглот. Ванька Сухозанет.
– И Комар с ими?
– Нету. На Старом заводе нонче зимует. Барин с гостеньком вином наливаются, потому домоправительница Агапия Власовна с самого Рождества хмурая.
– Крепко она твоего барина в кержацких рукавичках держит.
– Она всех нас крепко держит. По шеям, как по косякам, кулаками стукает. Кремневая, но все одно уважаемая мною баба…
Дементий потер щеку:
– О господи! Катеринбург-то наш Новый годок так в винном зелье искупал, что диву даешься, как это новорожденный вовсе не утоп.
– Твои купцы, Дементий, кажись, тоже не отставали.
– Три дня пили. Старый Сила до того дошел во хмелю, что с архиерейским ключарем в парадной зале на люстре качели смастерили. Качались, качались, а люстра-то под телесами ключаря и оборвись. Монах чуть не до смерти расшибся.
– Экое дело…
– Дикость купецкая, Емельян. А сам-то погулял?
– Нету. С хмельным давно дружба врозь. Почитай, с поры, как меня, молодца, парня, убеглого от барина во хмелю, заново в крепость поймали да в солдаты сдали. Рабочему люду, Дементий, с вином нельзя знаться. Винное зелье разум тупит, как сучок топор. От вина оказываешься безмозглой чуркой. Добрую мысль в разуме отыскать не силен. А пьяная дикость и ангела может напоить, да так, что он, во хмелю летая, крылья о наши колокольни обломает. Понимай, Дементий, я человек кости крестьянской, с походкой солдата, а посему желаю в трезвом облике на свете значиться.
– А ведь я к тебе с новостью шел, – сказал Дементий. – Слушай, Емельян, дочка моя услужает у купцов Первушиных. Слыхала купецкий разговор про то, что каслинский Савватий опять объявился.
– Неужели? – притворно удивился Емельян.
– Вот и понимай, к чему дело идет. Савватий зело смелый мужик. Последний бунт такой подняли… Два года в страхе Камень держали. Думаешь, Савватий теперь смирным стал? Ого-о-о! Савватий – он такой…
– Про Савватия все работные знают.
– Так-то вот… Стало быть, ты Новый годок сухим встретил.
– А ты как отпраздновал? – полюбопытствовал Крышин.
– Аль позабыл, что мне на сей тропе ходу нет. Моя Парасковья отвадила меня от вина на второй день после венца. Бедовая по крепости характера баба. А главное, в ейной головушке умок не бабий. Ну вовсе по-твоему рассуждает. Дескать, пусть зенки вином господа заливают, а работному человеку надлежит трезвым быть, чтобы мысль в его голове жила. Ну ладно, бывай. Пора брякать. Старый Сила с бессонницей дружит, серчает, когда редко караул бью. – Дементий вылез из будки и застучал колотушкой.
В господских хоромах светились три окна во втором этаже. Муромцев в ноябрьские дни перенес сюда свое жилье после того, как отвел первый этаж жене, привезенной на жительство в Екатеринбург из принадлежащего ему Старого завода.
В буранную ночь в хоромах заводчика свет виднелся в окнах просторной палевой гостиной. Роскошна она по убранству. Пилястры в ней с позолотой. Потолок и карнизы в лепных орнаментах и росписи. На карнизах написаны амурчики, порхающие среди гирлянд пышных роз, а на потолке – хороводы сатиров и нимф. Кресла, диваны, столы, этажерки гостиной украшены золоченой резьбой. Зеркально навощенный паркет отражал в себе каждую вещь.
На стенах портреты: дама с розами, дама в пудреном парике, с мушками, старый вельможа в белом мундире. На самом видном месте в овальной раме большой портрет девушки лет семнадцати. Написана она в пене кружев. Портрет создан за три года до того, как Муромцев увез ее из родительского гнезда в Псковской губернии. Девушка, став женой заводчика, лишилась разума.
Около окна в углу, похожие на шкаф, старинные часы.
В пасти камина, в пуху золы, таяли угли. Их слабый отсвет играл на хрупких статуэтках севрского фарфора, розовинкой ложился на стекла горки.
На столе, покрытом парчовой скатертью, бронзовый канделябр с коптящими свечами. Около него бутылки с заморскими винами, ваза с яблоками и хрустальные фужеры. И тут же бархатный футляр с дуэльными пистолетами.
К столу придвинуто кресло. В нем, развалившись, сидел тучный артиллерийский генерал Иван Онуфриевич Сухозанет, владелец Юрезанского и других заводов. Он заехал к Муромцеву по пути в столицу и проводил в Екатеринбурге новогодние дни.
От усиленных праздничных возлияний одутловатое лицо генерала багрово. Мясистый нос над оттопыренными губами навис крючком. Мундир на генерале расстегнут, и под ним видна черная шелковая рубашка.
Хозяин дома, Владимир Аполлонович Муромцев, стоял рядом в халате, слегка пошатываясь, с гитарой в руках, напевал гусарскую песенку. Он высокий, поджарый. Серовато-желтая кожа обтягивала скулы сухощавого лица. Курчавые пышные волосы и бакенбарды белы как снег, и только в лихо закрученных усах еще сохранялись черные волоски. Взгляд его линяло-голубых глаз злой.
Отпивая из фужера вино смакующими глотками, генерал говорил хриповатым голосом, откашливаясь после каждой фразы:
– Ты должен, дорогуша, верить мне на слово. На этот раз в Петербург качу не кланяться в пояс, как бедный родственник, а ссориться и требовать. Я докажу его величеству. Он должен не забывать, что в то декабрьское утро я был верен ему. Картечь моих пушек остановила мятежников на площади Сената. Я буду требовать…
Муромцев, услышав последнюю фразу, перестал петь и, перебирая пальцами струны гитары, спросил:
– Я, кажется, ослышался?
– Нет, дорогуша, ты не ослышался. Именно требовать! Требовать ограничить власть главного горного начальника генерала Глинки. Разрешить нам частым гребнем прочесать горные канцелярии генерала и отодвинуть купцов подальше от заводов, от золота и всех рудных богатств.
Выслушав генерала, Муромцев рассмеялся и запел в полный голос.
– Смеешься? Не веришь? Вот что, дорогуша, сделай одолжение. Положи гитару. Поешь из рук вон плохо. Голос твой дрожит.
Недовольно пожав плечами, Муромцев бросил гитару на ближний диван, ее струны всхлипнули жалобным звоном.
Сделав шаг к столу, Муромцев поднял фужер с вином и спокойно сказал:
– Спорить с государем у тебя не хватит смелости.
– Дворянам на Урале пора начать спорить с его величеством о своих законных правах. Подумать страшно, до чего распустилась столица. Сочинитель Пушкин высмеивает знатных людей. В театре ставят грибоедовскую комедию «Горе от ума». Какому-то сочинителю Гоголю дозволяют высмеивать нравы чиновной империи.
– Но ты сам только сейчас собирался прочесать чинуш?
– Я кто? Сухозанет, а не Гоголь! У меня есть на это право.
– Без наших чинуш, без их любви к взяткам ты никогда не владел бы кое-какими заводами и рудниками. И прежде чем ты доберешься до них, генерал Глинка нащелкает тебя по носу.
– Меня?
– Уже забыл, как Глинка на тебя кулаком стучал по столу?
– Когда это?
– Когда вел следствие о твоих экзекуциях над виновниками рабочего бунта. Вспомнил?
– Охота тебе вспоминать об этом. От всего пережитого тогда я перед Глинкой просто-напросто растерялся. Тогда я действительно переперчил. Да, генерал Глинка стучал на меня кулаком по столу. А какой вышел из этого толк? Смирил он меня? Нет. Заставил жалостливым стать к мужикам? Нет. Особо ненавижу уральских. Хотя бы за то, что, живя среди них, перенимаю даже холопью манеру разговора. Со всей империи сбежались сюда, со всей Руси снесли в леса свое непокорство, укрылись от страшного греха ликами Спасителя и Богородицы.
– Ты, Онуфрич, ненавидишь крепостных из трусости. Боишься их.
– Из трусости?! А ты их не боишься? В бунт в Юрезани они меня в спальне связанным на люстре вниз головой повесили. Хотели дымом задушить. Как рыбу, меня закоптить собирались. Только десница Всевышнего спасла от неминуемой гибели.
– Не десница. Спасли тебя от смерти солдаты, и приказал сделать это Глинка.
– И за что Господь наказывает нас, дорогуша? Почему это мы родились хозяевами русских мужиков? Почему на роду нам написано быть хозяевами этого упрямого и непокорного народа? Живу и не могу уразуметь, чем можно его в покорность привести. Сам посуди. Бьешь мужика – молчит. Хвалишь его – тоже молчит. По осени написал для крепостных «Нравственные юрезанские заметки». Повелел попам обучать ребятишек. Может быть, поможет. Может, с ребячьих лет все же удастся привить их разуму покорность к родному барину.
– Напрасный труд. Не привьешь. А почему?.. От нашей слабости. Разве господами мы на Урал пришли? Пришли приживалками. Пришли, держась за подолы купеческих дочек. С поклонами пришли из-за своей обеднелости. Стукались лбами о купеческие дверные косяки – вот и достукались.
– Мы с тобой пришли сюда по праву наследования. Сейчас у дворян в руках большинство заводов.
– Но и мы просили купцов учить нас уму-разуму, как стать заводчиками.
– Быть хозяином я ни у кого не обучался. Рожден на свет божий повелевать. А ты, кажется, начнешь сейчас выгораживать передо мной купчишек?
– Выгораживать их перед тобой не буду. По той простой причине, что они от твоей ненависти насмерть не угорают. За себя мне обидно: слишком поздно научился разгрызать твердые уральские орешки. Стыдно, что плохо умел обуздывать крепостных. Поздно подружил разум со стремлением к владычеству над уральской медью, и все же я единственный из здешних дворян, который прозрел и понял, что властью над медной рудой еще можно наверстать упущенное время. На меди тоже сидят жирные купеческие зады. Но я их потихоньку спихиваю. Я утверждаю в крае над медью истинную власть дворянина с царского благословения.
– Хвастаешь?
– Нет, Онуфрич. Тульский кузнец Демидов создал по воле Петра в крае эпоху железа. Вольский купец Расторгуев по своей смекалке создал эпоху золота. Теперь дворянин Муромцев создает эпоху меди.
– И станут тебя скоро звать не Седым Гусаром, а Меднолобым.
– Да что там прозвища! Я о серьезном говорю.
О назначении российского дворянина. Муромцев появился на Урале, чтобы войти в его историю, записать в книге уральского бытия свое существование более крупным, а главное, более грамотным почерком, чем у Демидова и Расторгуева…
– Ну, ну! – Сухозанет покачал головой. – Опасно брать пример с Демидова.
– Это почему же?
– Он верховодил Уралом, когда народ еще не умел думать. Ему, как своему мужику, народ помогал. Демидов, кроме всего, знал мужицкое «петушиное слово».
– Глупости это. Народ начинает помогать, только когда его принудишь к этой помощи.
– А сумеешь его принудить?
– Постараюсь.
Сухозанет снова покачал головой:
– Смотри не ошибись. Взгляни на мои руки. Мозоли на них от плетей, а толку все равно никакого.
– У меня будет толк.
– Не верю. Судя по тому, как ты раскол приручаешь, никакого толку у тебя с замыслами о владычестве над медью не получится.
– Я приручаю раскол на свой манер.
– А я приручаю его совсем по-иному. С кержаками-скитниками в дремучих лесах обхожусь ласково. Крендельками-посулами заманиваю из лесов на мои заводы. В лесах раскол лаской обхаживаю. А как доверятся мне, как припишу их к заводам, то и начинаю плетью приучать к нашей правильной христовой вере.
– Это, стало быть, за ласковость выжигают они твои заводы?
– Жгут, проклятые! Жгут! Потому, кержак не кержак, все равно русский холоп. На пустые разговоры время изводим. Никто не знает, как обуздать непокорность в народе. Никто! Ни царь небесный, ни царь земной. Ты лучше скажи мне вот о чем: на чьих землях лучшая медная руда втуне пребывает? Мои угодья в расчет не клади. Мою медь будешь у меня покупать. Назови мне тех хозяев, у коих надумал ее даром взять.
– Самая богатая медь у Василисы Карнауховой да у Тимофея Старцева.
Удивленный, генерал сложил губы, чтобы свистнуть, но свиста у него не получилось.
– В озноб меня кидает, когда про Карнаучиху слышу. Вот чертова старуха! Тебе с меди ее не спихнуть. Может, через дочку найдешь дорожку к старухе? А как Старцева возьмешь? За его спиной раскол. После Расторгуева он у кержаков вроде христова апостола…
В гостиную вошла Агапия с горящей свечой в руке. Она остановилась на пороге. На ней малиновый сарафан, обшитый широкой парчовой тесьмой. Высокая и стройная. На лице выражение величавой строгости. Следом за ней неслышно появилась белая борзая и заворчала на Сухозанета. Генерал обернулся и, увидев Агапию, торопливо перекрестился. Агапия без улыбки спросила:
– Пошто креститесь, барин-генерал, я, чать, не сила нечистая?
– Сила ты, Агапия Власовна, чистая, но только привык в своих раскольничьих местах от ваших бабьих поглядов осенять себя крестным знамением. Погляжу в ваши глаза – и начинаю сны грешные видеть.
Муромцев щелкнул пальцами. Собака подошла к нему, и он почесал ей за ушами.
– Вина, Гапа, нам больше не надо.
– Не за этим пришла, барин. Время позднее. На часы взгляните.
Муромцев посмотрел на часы. Их стрелки подошли к полуночи.
– Спать пора. А барину-генералу я уж и постельку изладила.
– Мы еще посидим, – недовольно сказал Муромцев. – У нас разговор интересный.
– Завтра его закончите. Говорю, спать пора. Уж который раз полуношничаете?
Муромцев посмотрел на Агапию и, увидев ее сощуренные веки, развел руками:
– Ну что ж, будем ложиться. Проводишь генерала. Зайди сюда свечи погасить.
– Сделайте милость, барин, сами погасите. Гостя мне надо ладом обслужить. Пожалуйте, барин-генерал.
Сухозанет, с трудом согнув в коленях ноги, покряхтывая, встал:
– Покойной ночи, дорогуша.
Борзая снова зарычала на генерала.
– Ну, чего злишься, дура?
– Чужой вы ей, вот она и остерегается. Животная.
– Верно. Раньше ее у вас будто не видал. Как кличешь?
– Мушкой зову. По осени меня барин одарил.
– Пойдем. В самом деле, спать охота. Фу ты, опять сказал холопское «охота» вместо «хочется».
– Следуйте за мной. Вперед пойду, потому светить буду.
Агапия вышла из гостиной, а следом за ней направился, тяжело ступая, Сухозанет.
Прошли молча через большой темный зал, и от прохлады в нем генерал зябко пошевелил плечами. Потом миновали длинный коридор и оказались в маленькой горнице.
– Вон куда меня устроила.
Позевывая, Сухозанет осмотрел горницу с постелью, приготовленной на широком диване.
– Почему из вчерашнего покоя сюда перевела?
– Здеся теплее. На воле буранище. Вы, чать, тепло любите?
– Больше всего люблю тепло маленьких комнат. Много ли мне места надо?
– Вот так и рассудила, что в этой горнице вам поглянется. Покойной ночи. Сейчас вашего слугу пришлю.
– А ты сама меня раздень.
– Не обучена этому, барин-генерал.
– У-у-у, шельма!
– В маменьку уродилась.
Генерал придвинулся к Агапии вплотную и погладил ее по спине:
– Густо замешанная.
Агапия отошла от него и поставила свечу на столик возле постели. Генерал неожиданно обнял Агапию сзади. Но она развела свои руки, и он упал на постель.
– Что это, Иван Онуфрич, как плохо стали на ногах держаться?
– А зачем меня толкнула?
– Господь с вами.
– Я к тебе с лаской, а ты толкаешься.
– Простите за бабью неловкость. Щекотки ужасти как боюсь.