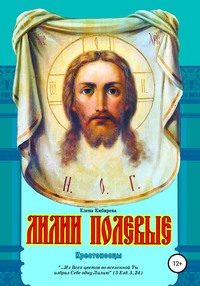
Лилии полевые. Крестоносцы
– Какому же наказанию Вы думаете подвергнуть его на сей раз? – глядя в упор на помощника инспектора, задал вопрос отец Агапит.
– Да я бы, отец инспектор, советовал его дня на три без обеда оставить, – как-то боязливо ответил Иван Кириллович, – уж больно задирист этот мальчишка.
– Пришлите его ко мне! А там видно будет, какое наказание назначить. А то я его совсем не знаю. Заглазно ошибиться можно.
– Слушаюсь, отец инспектор. Но мы-то его хорошо знаем.
Минут через пять появился Клепиков. Небольшого роста, гладко выстриженный, с бойкими, веселыми глазами, он производил впечатление еще совсем мальчишки. Казалось, что достаточно малейшего повода, чтобы он разразился смехом. Что-то наивное и по-детски бесхитростное чувствовалось во всем внешнем виде озорника.
Клепиков, красный от смущения, сложил руки ладонями кверху и наклонил голову под благословение.
– Что наделал? – спокойно и просто спросил отец Агапит и в ожидании ответа вперил сострадательный взор в лицо Клепикова.
Краска еще более залила лицо маленького семинариста, и он едва внятно пролепетал:
– Дразнил Ивана Кирилловича. Простите, отец инспектор! Больше не буду.
– Вот это хорошо, что сразу сознаешься. А родные у тебя есть в городе?
– Есть. Дядя, священник у Антипы Мученика… Да Вы не сказывайте ему, пожалуйста, отец инспектор, – просительно прибавил он, – я больше не буду.
– Не скажу! Только ты помни, что сам обещал мне больше не дразнить Ивана Кирилловича. И не дразни его, хотя бы для меня, – прибавил отец Агапит, благословляя Клепикова. – А теперь ступай!
Мальчик как-то неопределенно затоптался на месте и вопросительно посмотрел инспектору в глаза. Отец Агапит невольно остановился в ожидании. У Клепикова задрожали губы, и он едва слышно выговорил:
– А наказание мне какое будет?
– Поди с Богом. Никакого, – ответил отец Агапит. – Ведь ты же дал мне обещание? – он вопросительно взглянул на озорника.
– Угу, – еле вымолвил маленький семинарист и, прежде чем уйти, схватил руку инспектора и горячо поцеловал.
Окончив разговор, отец Агапит вышел из квартиры, чтобы идти на урок. В коридоре перед ним точно из-под земли вырос Иван Кириллович. Решительным тоном он спросил:
– Так уж разрешите, отец инспектор, Клепикова-то без обеда оставить. Это ему будет чувствительнее всего, а то совсем забылся мальчишка!
– Знаете, Иван Кириллович, – ответил отец Агапит, – такие сильные наказания нам вообще нельзя накладывать на воспитанников без согласия педагогического совета. На совете выслушалась бы Ваша жалоба и мой доклад о душевном состоянии ученика, который считается Вами преступным.., и, думается, – отец Агапит в упор посмотрел на оторопевшего Ивана Кирилловича, – совет никаким образом не наложил бы на него наказания.
– Так Вы, отец инспектор, хотите его оставить без наказания? – угрюмо спросил обескураженный Иван Кириллович. – Но ведь это значит, что нам теперь житья не будет!
– Станем, Иван Кириллович, стараться делать так, чтобы всем житье было: и нам, и ученикам, – ведь и им хочется получше жить.
И отец Агапит, бросив многозначительный взгляд на своего помощника, вошел в класс, где должен был давать урок. На уроке он горячо говорил об искушениях Иисуса Христа от диавола и со вдохновением изъяснял юным семинаристам, в чем состояла победа человеческой природы Спасителя над ухищрениями врага рода человеческого. Он говорил так живо и увлекательно, точно сам лично пережил и превозмог подобные искушения.
Урок закончился. По окончании урока словно кто-то шепнул ему: «Да разве у тебя такие искушения?! Голод, самолюбие и гордость и тебе, наверное, победить гораздо легче, чем ту душевную муку, какую ты испытываешь от сознания потери человеческого счастья – счастья с единственно любимым человеком, которое могло выпасть на твою долю».
«О, Господи! Прости мне мое искушение. Помоги преодолеть грех, который неминуемо влечет меня к душевной смерти», – торопливо крестясь и отгоняя внушаемые извне коварные мысли, шептал отец Агапит, возвращаясь после уроков домой. В грустном унынии подкрепился он скромной пищей в обеденное время. И все думал о тяжести своего креста и о том, что не помогают ему многочисленные поклоны. Да и тяжелые сны не отступают. А отец Леонид все не смягчает строгости и не убавляет число земных поклонов.
«Уж очень тяжело… – тоскливо думает отец Агапит. – Особенно тяжело при моих сложных научных и инспекторских обязанностях. – Прямо непосильно. А все-таки сегодня надо сходить к отцу Леониду». И после вечерни он стоял и стучал в келью старца Леонида в коридоре монастырского общежития.
– «Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!» – проговорил отец Агапит монашеский пароль уже третий раз с небольшими промежутками.
Но обычного ответа «Аминь» все не было. Входить было нельзя. «Что же такое это значит?» – проговорил сам с собою отец Агапит и, еще потоптавшись с минуту на месте, медленным шагом пошел, чтобы постучаться в соседнюю келью и сказать, что от отца Леонида нет ответа на стук в дверь и молитву. Но в то время щелкнул замок и дверь кельи отца Леонида отворилась.
Отец Леонид, высунувшись из двери, замахал рукой и суровым голосом сказал:
– Что, нет терпенья? Знать, не очень нужно, коли домой пошел! Зайди, ежели какое дело есть до меня.
Отец Агапит смущенно возвратился и при входе в келью сделал хозяину низкий поклон, дотронувшись до пола пальцами правой руки. Отец Леонид уже сидел на стуле. Здоровый, коренастый, с длинной бородой, с густыми, сросшимися бровями и огромными кулаками, он как бы представлял собою олицетворение угомонившейся силы, которую беспокоить небезопасно… – она отдыхает, притихла.
Отец Леонид был из крестьян и едва грамотен. Известен от монастырской братии как сурово строгий исполнитель монастырского устава и монашеских обетов. От его религиозности веяло непосредственностью: если он говорил «Господи, помилуй!» или «Пресвятая Богородица, спаси нас!», то, значит, искренно верил и был убежден, что Господь или Матерь Божия вот и стоят перед ним, грешным Леонидом.
Отец Леонид был прям и прост до грубости. Говорил он без лести и без всяких уверток. Это считали признаком мудрости, и за это назначили его в руководители новопостриженных монахов. На него указали и отцу Агапиту как на искусного и твердого учителя иноческой жизни.
– Ну, – не оборачиваясь к отцу Агапиту, обратился к нему старец, – да сядь вот тут-то, на стул. В ногах-то правды нет!
Отец Агапит смиренно сел и высказал все, что пережил он за прошедшую ночь и следующий за ней день, перечисляя все свои искушения и подробно описывая душевную муку. Ни словом не обмолвился, ни одного движения не сделал старец, пока говорил «новоначальный монах». А когда тот окончил, он, как статуя, не двигаясь ни одним мускулом тела, проговорил:
– Прибавь сто поклонов!
Поежившись немного, словно хотел что-то сказать, отец Агапит, однако, встал, сделал глубокий поклон, коснувшись рукой пола, и тихо вышел из кельи.
А отец Леонид так и остался сидеть на стуле, даже не пошевельнулся.
«Вот крест-то! Вот тяжесть! – думал отец Агапит, возвратившись домой. – Днем труды и служебные искушения, а ночью смирение плоти и духа».
– Прибавь сто поклонов! – вслух повторил он слова старца и тут же подумал: «Это к обычным тремстам поклонам, которые я выполняю, и чину двенадцати псалмов! И это каждый день и каждую ночь!».
– О, Господи, помоги мне! – вырвался тяжелый стон из груди отца Агапита, который не знал уже, что для него мучительнее: грех, так пленивший его, или иноческое послушание.
***Наступило время летних каникул, и отец Агапит решил воспользоваться свободой от занятий, чтобы попутешествовать по святым местам. Он и отпуск уже взял на все лето, и несложное имущество, нужное для дороги, уложил в чемодан. Пора бы ему в путь, да толком не надумал еще, куда поехать.
Инспектор внимательно осмотрел скромную обстановку своей квартиры – и так отчего-то защемило его сердце, точно он навсегда покидал немых свидетелей своей трудной жизни. Эти захватанные стулья, закапанный письменный стол точно хотели сказать: «Прощай, отец Агапит, и не поминай нас лихом!».
Вот угольничек перед дорогими сердцу намоленными иконами – сколько он видел слез и сколько слышал воздыханий. А кровать, сиротливо прижавшаяся к стене в самом углу! Если б только она могла говорить, то сколько поведала бы всевозможных сновидений, занимавших душу отца Агапита после тяжких молитвенных трудов?
Жаль почему-то расставаться со всем этим. Какое-то предчувствие того, что он уже никогда не возвратится сюда, посетило отца Агапита. Именно поэтому вот уже три дня он все никак не может отправиться в путь.
«Завтра непременно поеду», – задумчиво расхаживая по комнате, наконец решает он.
– Письмо вот, отец инспектор, – говорит появившийся служитель, подавая пакет.
На почтовом штемпеле помечено: «Златарунь». Это от брата. Прочитав письмо, отец Агапит широко осенил себя крестным знамением и произнес:
– Вот Божие смотрение! Если бы я уехал раньше, то и не знал бы ничего. А теперь прямое указание, куда мне надо ехать.
Брат отца Агапита, диакон села Залесья, Гавриил Заведеев, оказывается, «сильно болен и едва ли поправится», пишет его жена. А потому он просит своего брата поскорее, если можно, приехать. «Хочет посмотреть на Вас и проститься». Сейчас же отец Агапит собрался в путь. «Простите, дорогие!» – точно к живым, обратился он к предметам обстановки в своей квартире и, стоя посреди комнаты, широко осенил ее на все четыре стороны крестным знамением. «Точно в последний раз… – грустно думалось ему. – Вот как вымотала меня борьба с греховными чувствами! Скоро ли доживу до времени, когда в душе все наладится и пойдет, по словам отца Савватия, “тик-так”!»
На третий день отец Агапит подъезжал уже к селу Залесье. Странные чувства волновали его. Сердце сжималось от сознания близкой опасности потерять любимого брата. И в то же время какое-то радостно-трепетное воспоминание о давно прошедшем, когда он гостил у брата в первый раз, превращало его грусть в уверенность, что все обойдется благополучно и болезнь отступит.
Вот и домик брата! Окна в спальне совершенно закрыты. Что там?! Матушка-дьяконица, заслышав стук подъезжавшего экипажа, вышла на крыльцо и, обливаясь слезами, бросилась к отцу Агапиту на грудь, чем привела его в крайнее смущение.
– Да полноте, полноте, сестрица, – сам готовый расплакаться, утешал отец Агапит рыдавшую матушку. – Бог милостив. Теперь лето, тепло, поправиться куда легче. Чем болен-то? – задал он вопрос.
– Да Бог его знает. Простудился, должно быть. Сначала думали, нездоровится просто! Мало ли у кого голова болит или какая там слабость. А вот теперь вторую неделю пластом лежит, не вставая.
– Ну, ведите, посмотрим!
Больной спал. Расспросив подробно про болезнь и посмотрев на спящего брата, отец Агапит распаковал свой чемодан. Он вынул из него ящичек с гомеопатическими средствами и лечебник по гомеопатии. В утешение же невестке сказал:
– Попробуем полечить гомеопатией, иной раз просто чудеса творятся от этих лекарств.
Больной скоро проснулся и слабым голосом спросил, не приехал ли Агапит.
– Приехал, приехал, дорогой мой! – радостно вошел отец Агапит в комнату к больному, неся в руках коробку с лекарствами.
Благословив больного, он припал к нему на грудь и крепко прижал его, точно желая возбудить в нем ослабевшие жизненные силы. Желтое, истощенное лицо больного просветлело и озарилось едва заметной улыбкой, но печать страдания с лица еще не пропала.
– От моих лекарств, да даст Бог, поправишься! – говорил отец Агапит брату. – А я поживу здесь, пока ты не выздоровеешь.
Минут через десять больной, приняв лекарства, снова уснул. Отец Агапит только теперь заметил, что длинный маятник стенных часов мерно выстукивает: тик-так, тик-так! «Это хорошо, – подумал он, – это предзнаменование, что все пройдет ровно и правильно. Дай Бог!» – и отец Агапит осторожно, на цыпочках, вышел из комнаты.
***Молитвы отца Агапита, тщательный уход за больным, аккуратный прием лекарств и прекрасная летняя погода сделали свое дело. В скором времени отец диакон уже мог свободно разговаривать с родными, а недели через две начал понемногу вставать с постели.
Дело быстро шло на поправку.
Живя у брата, отец Агапит любил совершать прогулки в окрестностях села и особенно бродить по полям.
– Благодать Божия! Ширь-то какая! – с восторгом рассказывал он брату, возвращаясь домой.
Часто в своих прогулках он направлялся по дороге, которая вела к Вознесенскому селу, что на Высокой горе. «Там, – невольно думалось ему, – улыбнулось было мне счастье! Но вместо него я посвятил свою жизнь Богу и служению людям. Впереди у меня очень много дел. Этим лишь утешусь?»
– А она, Верочка?.. – тоскливо шептал он, когда в сознание его, инока, вползал как тать и теперь любимый им образ. – Ее насильно выдали замуж. Не хотела ведь идти… Как-то теперь она живет?
Отец Агапит даже не знал, в каком городе находится его бывшая невеста. Знал только, что где-то на Оке. Постоянная дума о Верочке наполняла против воли сознание отца Агапита картинами его собственной фантазии, и он ясно чувствовал, что спасения от них надо искать в монашеских подвигах. Строгий пост, продолжительные молитвы, поклоны до ломоты во всех членах – все это было крайне необходимо ему, и как можно скорее.
«Да разве возможны подвиги среди чарующей поэзии летней природы, где на полной свободе все цветет, поет, движется?.. – думал отец Агапит. – Миллиарды жизней зарождаются здесь под каждым листочком и поют на бесконечное множество ладов свои песни, выражая этим жгучую радость – радость своего бытия. В природе с раннего утра и до позднего вечера – головокружительный, веселый праздник. Уединиться мне тут решительно некуда. На этом празднике жизни и бытия можно только снова зажечь то, что потухло!» – с ужасом сознавал он.
И это сознание угнетало отца Агапита и вместе с тем почему-то радовало. Но почему, он сам, как ни старался, не мог определить.
– Невозможно жить рядом с этой природой и не петь. Вот он, милый какой! Так и кланяется, точно говорит: «Возьми меня», – нервно срывая напитанный влагой тюльпан и припадая к нему губами, бормотал отец Агапит. – А вот незабудка! Это значит: «Не забудь меня!».
Целый букет душистых полевых цветов набрал в поле отец Агапит, жадно, всей грудью вдыхая их девственный аромат. «Вот он, пир жизни! – думалось ему. – И все живущее принимает участие в этом празднике жизни. Вот пчелка гудит и летает с цветка на цветок, добывая оттуда капли меда. Вот целые рои разноцветных бабочек гоняются друг за другом…»
«Мир точно приласкать тебя хочет, – ласково говорит сам себе отец Агапит, разглядывая ярко-красную Божию коровку, которая села ему на руку. – Видишь, посидела секунду-другую, расправила крылышки и поднялась на высоту. Лови ее теперь…» Он снял шапку и подставил свое лицо под ласкающие лучи солнца.

Хорошо и радостно было ему на природе. Высоко-высоко в небе поет свою песню жаворонок. Целые стаи стрижей с неистовым криком носятся с места на место, словно о чем-то хлопочут. Мохнатый, полосатый червяк выгибается, взбираясь на гнущийся под ним стебелек травы, и вдруг, испуганный ветром, сгибается в колечко, да так и притих, словно замер. Чары природы повсюду, и, кажется, нет в мире существа, которое чаровница-природа лишила бы своих горячих объятий.
Да, везде ликование, и в первый раз в жизни пришло на ум отцу Агапиту, что нет греха в том, чтобы принимать участие в этом безудержном веселии природы. Это – радость жизни! Это – свободная от всего земного хвала Великому Творцу всей Вселенной!
«Благослови, душе моя, Господа! Вся премудростию сотворил еси!» – в радостном восторге произнес молодой инок, возвратившись домой с ароматным букетом полевых цветов.
«А я еще размышляю о смысле монашеской жизни… – думал отец Агапит. – Вот цветы… Все они радуют человеческий взор и издают тонкое благоухание, а ведь они выросли на различной почве: одни – на плотном месте, другие – на рыхлой земле, иные – на сухих пригорках, а незабудки – в трясине. Так и букет добродетелей в душе человека. Все добродетели доброхвальны и привлекательны – приобретены ли они в юности, в зрелом возрасте или в старости; в мире ли среди широкого простора, на шумном празднике природы или в монашестве, среди уединенных тяжких подвигов. Именно так надо стяжать букет добродетелей! Да приобрести-то их трудно. Надо сначала очистить сердце от всяких греховных влечений и помышлений, и тогда уже насаждать доброе. А бороться с грехом и очищать душу легче в уединении, где меньше всего соблазнов…»
«Ну, кажется, я начинаю фальшивить, отдавая преимущество приобретению добродетелей монашеской жизни, – сказал сам себе отец Агапит, возвратившись с прогулки и сбросив с себя волну тревоживших его дум, – ведь решительно везде любит Господь сокрушенных сердцем и “на всяком месте владычествия Его”».
– А вот тебе письмо, – сидя под вишнями в садике перед домом, сказал отец диакон, заметив вернувшегося Агапита. – Иди-ка, брат, поскорее!
«Наверно, что-то важное из канцелярии митрополита. Что же? – подумал отец Агапит. – Ведь прошла только половина каникул, и мне еще целый месяц можно быть в отпуске».
– Посмотрим, – сказал он, вскрывая конверт и просматривая бумагу.
Канцелярия митрополита извещала, что Его Высокопреосвященство просит отца инспектора семинарии иеромонаха Агапита немедленно возвратиться из отпуска, если ничего серьезного удержать его на месте не может.
– Вот тебе и раз! – развел руками отец Агапит. – Монаху везде послушание. Завтра надо в путь! Только было отдохнул на природе душой в разгаре ее праздника, а тут опять в келью. Нет, буду проситься куда-нибудь в захолустный монастырь. Среди природы лучше славить Бога! Ни ты никому не мешаешь, ни тебе никто. В пустыню, в пустыню, – решительно и возбужденно закончил речь отец Агапит.
***– Вот спасибо, что на призыв скоро пожаловали, – говорит владыка митрополит, благословляя отца Агапита. – Садись-ка, да потолкуем о совершившемся уже факте! Вас назначили ректором семинарии в Н-ск, – продолжал владыка, усевшись в кресло и указав отцу Агапиту рукой на место против себя. – Это я отрекомендовал Вас туда для исправления семинарии.
– Благодарю за внимание, владыка святый, – низко поклонился отец Агапит, крайне смущенный сообщенным известием, – но что же я могу там сделать? Человек я малоопытный и молодой. С самим собой еще не навык справляться и учусь жить у других. А тут не только одну сотню юношей, будущих пастырей, надо вести правильным путем, но должно исправлять всю семинарию, в которой, очевидно, много проблем. Боюсь я, владыка святый! Весь отдаюсь в волю Божию и всякое послушание готов исполнить, которое мне по силам, но будет ли по моему разумению наложенное на меня великое и трудное дело? Вот я инспектором семинарии старался исполнять устав и распоряжения начальства – и все было легко. А самому делать распоряжения и давать направление всей семинарской жизни – другое дело. Повиноваться неизмеримо легче, чем безошибочно других призывать и руководить!
– Об этом говорить поздно, – сказал владыка. – А вот давайте помолимся сначала.
Тут же, в приемной владыки, в большом углу перед иконами стоял аналой, и на нем лежали крест и иерейский молитвослов.
Владыка возложил на себя епитрахиль и начал читать ектении из молебного пения «На всякое прошение», а отец Агапит, стоя на коленях, горячо молился о благопоспешении ему в предстоящем трудном служении.
– Ну, отец ректор, – начал владыка по окончании молебна, садясь на диван, – садитесь-ка и слушайте!
– Слушаю, владыка святый! – поклонился низко отец Агапит и тоже сел.
– В Н-ской семинарии в прошедшем году не раз были довольно сильные волнения, так что ректора, несколько строптивого и не в меру сурового, пришлось перевести на другое место. Вот вам прежде всего и совет: не следует быть очень суровым по отношению к воспитанникам. А у Вас стремление к этому есть. Далее. Мало в этой семинарии церковности. А приучить к этому семинаристов у Вас тоже есть данные. Вот главное!
Владыка на некоторое время задумался.
А затем продолжил:
– Хорошо, что теперь каникулы. У Вас будет много времени для ознакомления со своими делами до начала учения. Сразу же заведите определенные порядки и следите за неуклонным их исполнением! Вот и все! – закончил владыка и поднялся.
Уходя, добавил, благословляя:
– Завтра побывайте у обер-прокурора Священного Синода и его товарищей. Не мешает также зайти к председателю Учебного комитета и еще к кому найдете нужным или нелишним.
***«Господи, Боже мой! С новым назначением у меня как будто все переменилось, – думал, любуясь недорогою, но блестящей митрой, новопроизведенный архимандрит Агапит, ректор Н-ской семинарии. – И камни красивые, как будто настоящие», – трогал он пальцами разноцветные стеклышки, украшавшие митру.
Взяв в руки большой архимандритский крест, он почему-то потряс его на ладони, точно хотел узнать приблизительный вес. Затем не спеша перекрестился, поцеловал крест и позвонил в специальный колокольчик.
– Что прикажете, Ваше Высокопреподобие?
– Обед подавай! А потом укладываться надо, – однословно и официально отдал приказание отец Агапит.
Это вышло как-то само собой. «Да, все изменилось, – бросив еще раз взгляд на митру, стоявшую на письменном столе, подумал отец Агапит. – Последняя ступень к архиерейству… И Алексей это чувствует! Иначе как-то стал держать себя. Сразу, как только я возвратился из поездки, начал звать меня “Ваше Высокопреподобие”! Ох, эти горе-келейники!»
За обедом Алексей с салфеткой в руке стоял уже в столовой, а не как раньше: подаст блюда да и юркнет в свою комнату, продолжать прерванный было им обед.
Во все время обеденной трапезы отец Агапит вел с ним разговор:
– Ты, Алексей, купи себе приличную одежду, – наказывал он, – да и бельем запасись, чтобы не покупать сразу же по приезде все необходимое. По железной дороге поедем в отдельном купе. На целое купе и билет возьмешь. Сегодня же сходи на центральную станцию, завтра уже некогда будет, вечером поедем.
***– «… Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» – робко произнес отец Агапит в тот же день вечером, стучась в дверь лаврского духовника, архимандрита Исаии.
Отец Исаия, из крестьян Курской губернии, уже лет двадцать жил в лавре. Маленький, юркий, жизнерадостный, со всеми ласковый и приветливый, чуть ли не каждый день принимал он на исповедь кого-либо из братий, начиная с самых старших – наместника и других архимандритов – и кончая послушниками, приступающими к принятию монашеского пострига. Сам уже почти совершенно бесстрастный, с каким-то детским и даже наивным образом мышления, жизнерадостный отец Исаия и на все грехи смотрел как-то особенно, по-своему.
«Что бояться грехов, – постоянно говорил он, – эка невидаль! А Господь-то на что? Он, батюшка, всякие грехи простит, коли у тебя душа мягкая! Его только не забывай – и посрамишь диавола. Дьявол думает, ты согрешил, значит – ему послушник. Он тебя сейчас же в свой список: как бы, по-нашему, приуказить решил. А ты сейчас же вспомни Премилосердного Владыку и воздохни: “Господи! Согрешил, человек бо есмь, очисти и помилуй меня!”. Вот диаволу-то и конфуз – чужого записал в свой список! Да, брат кривохвостый, ничего не поделаешь, придется вычеркнуть раба Христова! Так-то! Значит, руки коротки. Только жестокой душе трудно очиститься, избавиться от диавола, – говорил отец Исаия. – Гордецу-самолюбцу нелегко смягчить душу, но и тех Господь вразумляет и приводит к покаянию. Вот хула на Духа Святого, упорство или противление истине не простятся, потому что противник раскаяться не может! Противиться истине – значит себя истинным считать. Старайся только душу сделать мягкою и ничего не бойся! Тогда Христос всегда придет к тебе и утешит твое сетование о грехе…»
И шла к отцу Исаие согрешившая братия, выплакивала свои прегрешения под его дырявой мантией и уходила радостная до новых беспокоящих душу грехов! А отец Исаия лишь махнет рукой вслед ушедшему только что раскаявшемуся грешнику и, посмотрев умиленным взором на икону Спасителя, как бы для своего собственного успокоения скажет: «Господи, человек бо есмь!».
– Ну, и что же, отец архимандрит, – весело встретил отца Агапита отец Исаия, – никак словом, делом, помышлением в дни и в нощи и на всякий час? Знаем Ваши грехи! Вздохнул бы к Богу, да и все тут!
– Нет уж, исповедайте, отец архимандрит, ради Бога, – умоляюще попросил отец Агапит. – Уезжаю завтра, так все-таки спокойнее с чистой совестью на новое место прибыть. Там, может, и не скоро удосужишься.