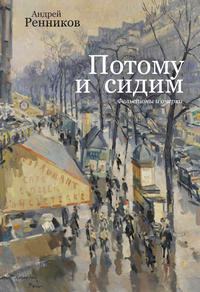
Потому и сидим (сборник)
Где-то на промежуточной станции наблюдал тоже очень любопытный местный обычай.
Поезд подходит, а какой-то господин в котелке держит в руке красный чемодан и суетится. Чего он суетился, я так и не узнал, хотя долго расспрашивал кондуктора. Но лицо пассажира до сих пор стоит перед глазами: сосредоточенное, тревожное, можно сказать, даже чуть-чуть испуганное. Местный ли это обычай – пугаться, когда поезд подходит, или же население в этой части Франции вообще слишком нервное, – не узнал, к сожалению. Хотел опять обратиться с вопросом к кондуктору, но русские соседи по купе помешали.
Ехало то нас на концерт целых шесть человек, и, понятно, все разговаривали. А какое французское объяснение может быть услышано, когда шесть русских человек в вагоне беседуют?
Достаточно было и одного голоса К. Е. Кайданова[105], который в ожидании выступления на концерте, время от времени прочищал свой бас могучей хроматической гаммой, а в промежутках говорил:
– Я, господа, из-за поездок в Барселону не успеваю даже газет читать. Все номера, конечно, сохраняю, вожу с собой, но просматриваю только тогда, когда урву свободное время. Вот, сегодня утром, с номером 745 успел ознакомиться. Оказывается, какой-то Линдберг собирается из Америки в Европу лететь. Каков смельчак, а? Кроме того, говорят, румынский король Фердинанд тяжело заболел, врачи опасаются…
В окне промелькнули огни. Пытливо протирая рукавом стекло, я старался вникнуть в сущность этих огней, чтобы из памяти не ускользнула ни одна мелочь, ни одна характерная деталь. Но К. Е. Кайданов продолжал отвлекать внимание жалобами на трудность чтения газетных романов.
Как оказывается, достаточно ему несколько номеров подобрать неправильно, – и фабула страшно запутывается, а кто кого убил и почему, – неизвестно.
Прибыли мы в Монтаржи через два часа. Моросил своеобразный провинциальный дождичек, от которого пришлось сейчас же укрыться в крытый автомобиль. Заводской театр, где должен состояться концерт, находится от станции в расстоянии около трех километров. В окно автомобиля, мчась к заводу, я старался рассмотреть город, чтобы ознакомиться с духом, но К. Е. Кайданов стал передавать запутанное содержание романа «Зеленый стрелок», и мы незаметно подкатили к театру.
Театр в Монтаржи огромный, своеобразный, построенный, очевидно, в эпоху Филиппа Красивого. Сбоку стены, наверху крыша, а внизу, на стульях, сплошь русские беженцы.
– Эти декорации, должно быть, эпохи Ренессанса? – начал расспрашивать я одного из местных земляков, обходя театр и внимательно осматривая его достопримечательности.
– Нет, значительно позже, – скромно ответил полковник, – Наш русский художник эти декорации написал. Вот он идет, видите?
– А каков местный французский быт и его особенности, вы не можете кратко сказать?
– Отчего кратко?… Могу и подробно. Живем, слава Богу, дружно, администрация относится хорошо, во всем идет нам навстречу. Лично я, например, имею приличную комнату в замке за 15 франков в месяц, огород развел, две десятины добавочно арендую… Труд на земле, конечно, тяжелый, но что поделаешь… По праздникам, все-таки, стараемся культурные развлечения организовывать, из Парижа к нам кое-кто приезжает…
Полковник рассказывает еще много о жизни своей в Монтаржи. Слушаю его внимательно, гляжу на море голов в зрительном зале, в душе поднимается горделивое чувство за своих русских людей, не сгибающихся под тяжестью суровой жизни. А когда начался концерт, особенно трогательно было видеть жадное внимание слушателей, это неразрывное единение русского таланта с чутким зрительным залом. Герои вечера К. Е. Кайданов, Т. А. Фохт, Е. Б. Чепелевецкая, Ю. И. Померанцев – все встретили самый сердечный, горячий прием…
– Коман са ва?[106] – спросил я после концерта французского журналиста, с которым меня познакомили, и которого я решил, наконец, использовать, чтобы ознакомиться и с историей Монтаржи и с особенностями провинциальной Франции в настоящее время.
– Мерси, бьен, – любезно ответил журналист и начал расхваливать русских, принесших сюда свой талант, честный труд и твердость национального духа…
В половине шестого утра мы выехали обратно в Париж. Было темно всю дорогу. Но, несмотря на темноту, на обратном пути мне удалось опять понаблюдать кое-что, кое-что зафиксировать.
Видел огромный шлагбаум с белыми и черными полосами. Промелькнул, оставив неизгладимое впечатление о пересекавшей железнодорожный путь шоссейной дороге.
Встретил затем семафор. На этот раз не четырехугольный, а круглый, с зеленым огнем.
А затем незаметно въехали в Париж. Масса путей, Лионский вокзал, такси… Поездка окончилась.
Специалисты путешественники утверждают, будто для всестороннего развития нужно путешествовать многие годы.
Но это может быть так для иностранцев. Что же касается нас, русских, то мы можем развиться и гораздо быстрее.
Ведь, вот только от половины шестого вечера до половины седьмого утра ездили мы. А сколько историко-этнографических сведений! И главное – комната за 15 франков! А?
«Возрождение», Париж, 16 января 1928, № 958, с. 3.
Новые конквистадоры
С каким-то трогательным чувством прочел я у нас корреспонденцию Павла Гордиенки об условиях жизни в Коста-Рики.
Оказывается, и там наши.
Об Аргентине и Парагвае, например, мне давно известно, что оборона этих республик находится в опытных русских руках.
Но вот, насчет Коста-Рики, сознаюсь, ничего до сих пор не слышал. Смутно только догадывался, что не станет на твердый путь прогресса и цивилизации Коста-Рика, пока наши случайно не приедут и не возьмутся за дело.
И предчувствие не обмануло: летчик Толмазов уже организует в Коста-Рике аэропочту. Другой энергичный соотечественник, сеньор дон Пабло Гордиенко тоже приехал.
Приводят оба республику в порядок, изучают слабые места, присматриваются к сильным. И, в конце концов, сделают то, что нужно. Коста-Рика найдет себя.
Задумываясь над исторической ролью российской эмиграции и, стараясь обнаружить в ней, помимо непрестанной пропаганды против коммунизма, общекультурный цивилизаторский смысл, я нередко прихожу к заключению, что миссия наша очень обширная.
Приободрить земной шар. Влить в него энергию. Научить разношерстные народы, разбросанные там и сям, между обоими полюсами, уменью рационально работать, рационально отдыхать, рационально мыслить и рационально развлекаться.
А это, согласитесь, не всякая нация может. В особенности, такая, у которой одышка.
По природе своей, почти каждый русский человек – Петр Великий, даже в тех случаях, когда он не Петр, а Павел или Иван. В каждом из нас глубоко заложены мореплаватель и плотник, и вечный работник – нужно только, чтобы для обнаружения этих способностей были под руками пароходик, пила, рубанок и объявление о том, что опытный инструктор требуется туда-то, тогда-то, на такое-то свободное место.
Как нужно работать под землей, мы уже показали в шахтах Болгарии, Франции, Бельгии. Как нужно работать на земле, мы показали в Бразилии, Канаде и Абиссинии. Как нужно работать в воздухе, мы показали в Геджасе, Коста-Рике и Сербии. Как нужно работать на воде, мы показали везде, где принимают на службу. И даже под заграничной водой наш соотечественник Бохановский, как мне известно, побил рекорд, проведя 5.000 часов в костюме водолаза при поднятии крейсера «Либертэ» и при других водолазных работах.
Благосклонно приняв на себя роль инструкторов по оздоровлению земного шара и по приобщению его к высшим культурным задачам, мы, однако, не становимся жестокими и заносчивыми по отношению к туземцам. В противоположность конквистадорам, мы не только не вырезываем и не уничтожаем вверенного нам населения, а, наоборот, увеличиваем его, насколько возможно, вступая в браки с туземками. Недаром, англичане боятся этой нашей черты – уменья ассимилировать. И велика их ошибка, поэтому, в нежелании восстановления России. Раньше русифицировали бы мы только какую-нибудь Персию, или Афганистан. А теперь ассимилируем Лондон, Париж, Берлин, Коста-Рику, Аргентину. И владеем не только морями, но всей сушей, включая сюда и промежуточные болотистые местности.
Беспокоил англичан какой-то скромный пограничный отряд на Кушке, под командой капитана Балакина. А теперь получили: раджа Сорокин в Бомбее, магараджа Чубаренко в Непале, сеньор дон Пабло Гордиенко в Коста-Рике, сеньор дон Мышковский в Аргентине, эччеленца Беляев в Парагвае, эфенди Иванов-паша в Трапезунде, жрец моганга Петренко в бельгийском Конго, мистер Кедров в Нью-Йорке, сэр Никита Балиев в Лос-Анджелесе…
За истекшие семь-восемь лет эмиграции, научили мы земной шар всему, кажется: и копать, и стругать, и шить, и кроить, и вышивать, и танцевать. Показали даже, что значит четырехголосное пение, без которого тянули бы они свои песенки в унисон, не понимая, что петь на земном шаре – вещь ответственная и перед людьми, и перед Богом.
А европейцы до сих пор завистливо не хотят признать за нами нашей исторической миссии. Все ссылаются на устаревших Васко Да Гама, на Магеллана, на Христофора Колумба.
Между тем, можно ли сравнивать ту эпоху и эту?
Находись наша эмиграция заграницей не сейчас, а тогда – в пятнадцатом и шестнадцатом веке… Что было бы! Кубанские и донские казаки моментально появились бы в Северной и Южной Америке.
Поехали бы джигитовать, вернулись бы обратно, удовлетворенные успехом. Далее сами не заметили бы, что открыли новые страны.
Но теперь, в наше время – учить, просвещать, завоевывать, открывать, инструктировать, давать пример, когда все завоевано, все открыто, все обучено, все инструктировано… Это не шутка.
В особенности, если принять во внимание, что Америка не только открыта, но, благодаря квоте, уже и закрыта.
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 3 марта 1928, № 1005, с. 2.
Земля, земля…
I.Странное дело. В России никогда не было у меня желания сесть на землю.
Жил всегда в городах, с пренебрежением смотрел на тех, кто сеет, веет, посевает, жнет, сажает, окучивает.
Непонятной казалась эта любовь к свиньям, к гусям, к курам. Даже чуть-чуть стыдно было видеть, как взрослый интеллигентный человек выходил во двор с мешочком кукурузы в руках и начинал нежным влюбленным голосом взывать:
– Цып-цып-цыпашечки!
Теперь, заграницей, как-то изменилась вся психология, а вместе с нею и логика. Чем больше живешь, тем больше тянет купить хотя бы небольшой участочек, отгородиться от внешнего мира частоколом и отдохнуть от передвижений по земному шару.
Как часто бывает… Сидишь дома за столом, обопрешься на локти и мечтаешь:
– Как бы сесть?
Конечно, очень существенным затруднением является то, что нет денег на покупку участка. Но если сравнить эти деньги с той суммой, которой не хватает на постройку хорошего дома, то ничего. Беда не большая.
Главное, трудно остановиться на местности. Где купить? С какой стороны от Парижа? С севера? С юга? С запада? И вообще, если начнешь как следует анализировать и углубляться в суть дела, сейчас же замучит проклятый вопрос:
– С какой стати я собственник именно этой точки земли? А если суждено мне быть землевладельцем в Аргентине? Так-таки и загубить себя бесславно в каком-то Пти-Кламаре, в Шелле, или в Жювизи?
Вот при подобной аналитической нерешительности и слабохарактерности я и пережил на прошлой неделе несколько нервных, в высшей степени мучительных дней. Приходит ко мне в гости приятель, садится к столу и небрежно бросает:
– Кстати, знаете? Я купил землю.
Будь это прежде, в России, собеседник бы не вызвал во мне ничего, кроме чувства снисхождения и жалости. Но тут непреодолимая зависть сразу же разлилась по всему организму. Я покраснел, поперхнулся чаем.
– А где, Сергей Иванович? Не секрет?
– Отчего же секрет. С удовольствием скажу. У нас еще масса свободных участков.
Он назвал местность, показал ее на общем плане банлье[107]. И продолжал бодрым, уверенным тоном:
– Целый поселок образуется, понимаете. Проведены шикарные улицы… В мае будет водопровод, электричество, газ… Местоположение – восторг. С одной стороны лес, с другой поля. Вид великолепный, пейзаж крестьянский… И знаете, сколько квадратный метр? Двадцать четыре франка! И, знаете, на сколько лет рассрочка? На восемь. И знаете, сколько платить в месяц? Сколько вы можете. И знаете, сколько задатку? Ничего!
– Это что же: филантроп продает? – чуть дыша, произнес я.
– Должно быть, филантроп. И во всяком случае – русофил. Я говорит, хочу, чтобы у меня побольше было вас, русских. Мой поселок, да будет вам второй родиной, дорогие мои. Я, говорит, не притесняю. Хотите платить в месяц сто, платите сто. Хотите пятьдесят – пятьдесят. Главное, селитесь и размножайтесь, а остальное придет само собой, только купчая крепость на ваш счет. Сообщение с Парижем тоже идеальное: пока только автобус несколько раз в день. Но через два года пройдет трамвай с севера… Через четыре года электрическая дорога с юга. Лет через десять, Бог даст, метро протянут. А через двадцать… Ого-го, через двадцать!
– Через двадцать – метр будет стоить тысячу франков, а? – волнуясь, поднялся я.
– Тысячу не тысячу, а за восемьсот пятьдесят смело ручаюсь. И дороги какие! Антик. Идешь, и будто по стеклышку. Брюки без пятнышка. Ноги чистые, чистые. Как натер сапоги утром, так и выглядят вечером… А лес… О, лес!.. Ветви шумят, почки бухнут, солнышко греет. И птички – на ветках. На одну взглянешь – одна птичка. На другую взглянешь – другая. И порхают, порхают. А поля по соседству, как в России, – ржаные. В прошлом году в первый раз видел… Иду возле поля, а рожь гудит, волны ходят. Будто кто-то нажимает на золотистые клавиши, пробегает по колосьям в ленивом арпеджио… А водопровод в мае окончат, увидите. И главное – что? Земля сразу после задатка – полная собственность! Вот сколько воскресений я езжу… Приеду, взойду на участок, оглянусь и говорю сам себе: Сережа, любуйся! Все эти двести квадратных метров от забора до будущей улицы – твои. Куда ни кинешь ты взгляд свой во все стороны – на семь метров в ширину, на тридцать в длину – все это твое, только твое… И эта травка твоя, и эта кочка твоя, и червячок, который ползет, твой, и камешек… Все пласты под тобой до самого центра земли вполне твои: и твердая кора, и расплавленная лава под ней, на протяжении шести тысяч верст. Жаль, конечно, что к центру земли участок все суживается, в виде пирамиды, но что делать. Зато вверх, в небо, расширяется он во все стороны до бесконечности. И когда какая-нибудь звезда проходит через зенит, она тоже моя. И звездное скопление мое. И Млечный путь.
– Сергей Иванович!.. – стараясь казаться спокойным, с дрожью в голосе говорю я. – Вы мне устроите что-нибудь по соседству с вами? А? Участок?
– Сколько угодно.
– Я хочу тоже двести метров… Нет, не двести, четыреста… Вы говорите, автобус? В таком случае, пятьсот… Через двадцать лет по восемьсот пятьдесят четыреста тысяч с лишним… Обеспечение на старость… Я, знаете, как думаю сделать? Купить и постепенно переселиться вглубь Франции… Здесь цена возрастет, я продам, отодвинусь от Парижа немного, куплю новый дешевый. Этот тоже возрастет, я опять продам, опять отодвинусь и куплю… Ведь на такое передвижение вглубь страны можно безбедно прожить!
Через полчаса оповещенные мною русские жильцы нашего дома были не на шутку взволнованы. Быстро явились ко мне, загудели.
Я беру 150, господа!
Я только для спекуляции!
А я жить буду, жить. Репу обязательно посажу.
Решено было в ближайшее же воскресенье идти смотреть новый поселок. А поздно вечером, когда все уснули, я сел за стол, взял карандаш, бумагу и нервно начал чертить план.
В двенадцать часов ночи мне казалось, что пятисот метров вполне достаточно. В час ночи, пришлось, однако, прикупить еще сто под картофель. В половине третьего добавочно двести для снабжения поселка капустой. В четверть пятого у меня уже стоял недурной двухэтажный каменный дом, сзади скотный двор, огород в две тысячи метров, впереди фруктовый сад, сбоку настоящее поле…
Солнце взошло, когда я уходил спать, держа в руке план огромной показательной фермы…
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 4 апреля 1928, № 1037, с. 2.
II.В воскресенье мы огромной компанией отправились осматривать земельные участки.
Шли живописной дорогой через Кламарский лес, и сами представляли тоже живописную картину. Впереди гордо выступал нынешний счастливый землевладелец Сергей Иванович. За ним, не отставая, будущий, не менее счастливый землевладелец я сам. А за нами уже следовали все остальные: сомневающиеся, колеблющееся, безразличные, вместе с женами, с детьми, с велосипедами и с колясочками.
Не хватало только Г. В. Глинки, который мог бы, как начальник Переселенческого управления, официально возглавлять наше движение.
Сначала двигались весело, дружно, оглушая лес громким смехом и кликами, пугая недавно прибывших с далекого юга птиц.
Но по мере того, как мы углублялись вглубь страны, миновав лес и оставив сзади себя фермы, поля, огороды, деревни, – клики перешли в сдержанную заглушенную речь, раскатистый смех сменился беззвучными кривыми улыбками.
Тамара Львовна, например, первые два километра, не переставая, шутила. Вторые два километра, бросив шутки, говорила серьезно о красотах природы. Третьи два километра сосредоточено дебатировала вопрос: стоит ли жить. И на восьмом километре, не выдержав, наконец, мрачно спросила соседа:
– А как, по-вашему, безопаснее кончать жизнь самоубийством: стреляться или топиться?
Нечего говорить, что дети тоже устали. Тата и Верочка перестали собирать цветочки, со слезами на глазах заявив, что назад вернутся не иначе, как в поезде. А Леня подошел к отцу и таинственно проговорил:
– Папа, скажи правду, почему я устал? Может быть, я не мальчик, а девочка?
Неизвестно, чем бы все это кончилось на десятом километре прогулки, если бы Сергей Иванович не приободрил, вдруг, нас. Выйдя на поворот, он неожиданно поднялся на цыпочки, свернул в трубку ладонь, приставил руку к глазам и радостно крикнул, обернувшись к отставшим:
– Земля, земля!
Поселок оказался, действительно, недурным. Местоположение прекрасное, с одной стороны лес, с другой – авиационное поле. Аккуратно вымощенные улицы проведены во все стороны. Участки огорожены частоколом, пограничные колья предусмотрительно выкрашены красной краской, чтобы покупатель видел, что приобретает…
– Вот этот мой! – гордо показал Сергей Иванович на узкую полосу, кончавшуюся огромной грудой жестянок. – Это мой, а это моего друга. И это тоже…
А! – весело крикнул он, увидев невдалеке среди пустыря сидевшую на корточках человеческую фигуру. – Николай Андреевич, вы здесь? Пришли?
Фигура поднялась, поправила пенсне.
– Да, пришел, – грустно произнесла она. – Скажите, кстати, никто из вашей компании не знает, как сажать бурачки?
– Бурачки? А мы сейчас все узнаем, погодите. Господа! Идемте сначала ко мне в гости, милости просим. Я кое-что покажу. Вот это – один угол, понимаете? А это – другой. Два остальных там возле леса, за жестянками. Раньше тут находился лагерь военнопленных, так, очевидно, консервов много, канальи, лопали… Но ничего. Или все вывезу, или пущу под удобрение… А этот колышек – дом. Видите? Будьте добры, господа, осмотрите, а затем пройдемте в сад… Вот, от камешка до камешка фруктовые деревья, а это у ямки – службы и гараж. Автомобиль хочу купить, продукты развозить по поселку. Иван Сазонтович, вы что? Думаете, попали вовнутрь здания? Нет, голубушка, дом не там, дом слева, а вы в огородик забрались… Ну, а соседи у нас почти только русские. Один итальянец случайно затесался, вон видите, дом построил, белье его жены сушится… Но зато с той стороны опять наши казаки. Самый лучший участок купили, хибарки возвели, все время работают. Ге-ге-гей! Земляки! Как по плану все это за «рю дэ Боскэ» или живете? Бог в помощь! Они, господа, и улицы назвали по-нашему. У хозяина за «рю дела Пэ» считается, но они ту улицу Новочеркасской наименовали, а эту вот, Баталпашинской…
Компания наша разбрелась по всему пространству поселка. Дети и дамы отдыхали на камешках; Аркадий Альфредович недоверчиво ходил возле заборов, почему-то интересуясь, из какого дерева сделаны колья; Иван Сазонтович неподвижно стоял на пригорке, скрестив на груди руки, погрузившись в думы о бывших военнопленных, о значении минувшей Великой войны для человечества; Петр Григорьевич отправился в гости к казакам, где уже нашел знакомого сослуживца по заводу Рено.
А что происходило со мной, даже жутко сказать… Часа три я, с горящими глазами, точно преступный кулацкий элемент, метался из одной улицы в другую, с деревянным метром в руках, перебирался через заборы, взбирался на подъемы, скатывался в овраги, мерил землю в ширину, в длину, в высоту, ковырял почву палкой, втыкал у воображаемой границы будущих владений зонтик…
– По фасаду мало… Куренка некуда выпустить, – жалобно обращался я к Сергею Ивановичу, недоброжелательно щурясь на красные колья. Еще бы двести. Или пятьсот… А, между прочим… Где, вы говорили, прокладываются рельсы трамвая? Близко отсюда?
– Да, вот. Перед нами.
– А разве это трамвай? Это вагонетка, Сергей Иванович!
– Вагонетка? А в самом деле… Вагонетка. Вот курьез! Но все равно, дорогой мой, не беспокойтесь. Через два года все будет… Вот, Ольга Ивановна тоже заявляет претензию, что итальянское белье портит вид… Но когда все застроится и все поселятся, разве можно будет узнать, чье белье где висит? И вообще, разве можно так ко всему придираться?…
Ночью в тот день я тщетно старался уснуть, отогнать впечатления… Перед глазами неотвязно мелькали колья, камни, кочки, жестянки… В мыслях путались цифры… И, вдруг, точно ударила неожиданная мысль: а что делать, если большевики будут свергнуты, и можно будет вернуться? Оставаться? Сидеть? Все поедут… Веселые… Радостные… Сядут в поезд… Начнут платками махать… А я? Жестянки, кочки, палки… Разъедутся знакомые… Переберется газета. В Петербурге окажутся все… Будут жить на Бассейной, на Знаменской, на Каменноостровском. А я? Рю дэ Боскэ? Рю де ля Пэ? За что? Чем я хуже? Или, может быть желать теперь, чтобы большевики дольше держались? Чтобы укреплялась техническая мощь красной армии?
Вскочив с постели, я дрожащей рукой зажег электричество, подбежал к столу. И, взяв карандаш, чтобы не забыть, быстро начертал в записной книжке: «Участка не покупать. Дудки».
«Возрождение», рубрика «Маленький фельетон», Париж, 7 апреля 1928, № 1040, с. 2.
Самовар
Чем был раньше для нас самовар? Простой, заурядной, обыденной вещью, на которую ни мы сами, ни наши гости никогда не обращали внимания.
Подавала его у нас Феня без всякой торжественности. Уносила тоже без особенной помпы. И никому не приходило в голову при виде его впасть в экстаз, любовно похлопать по блестящим бокам, благоговейно спросить:
– Где раздобыли? За сколько?
А между тем, помню… тот, петербургский, был настоящим красавцем. Высокий, стройный, сверкающий свежестью никеля, с хорошо поставленным голосом, чудесно выводившей заунывные восточные песни и в долгие зимние вечера, и в короткие белые ночи.
Конечно, он остался там. Кто теперь пьет из него – безразлично. Желаю этой каналье подавиться и обжечь свое горло. Но сейчас у меня есть другой самоварчик, небольшой, скромный, медный, с обломанным краном, с чуть помятым корпусом и, благодаря легкой течи, напоминающий беспомощного грудного младенца.
Приобрел я его в Белграде по случаю на толчке, на Александровской улице. Пришел покупать костюм, так как нужно было представляться на следующий день югославянскому министру народного просвещения. И, вдруг увидел…
– Что это такое, братушка? – стараясь сохранить хладнокровие, небрежно спросил я.
– Бога-ми, не знам, – чистосердечно сознался серб. – Машина для стирки белья, должно быть. Или аккумулятор… Русский солдат продал.
Заплатил я за аккумулятор этот 130 динар, забыл о костюме, о министре народного просвещения, схватил самовар за желанные черные ручки и бегом направился домой.
Старался идти не оглядываясь. Сейчас же повернул за угол. Неровен час – вдруг догадается хитрый старьевщик…
Ставил я свой самовар в Сербии не часто, но раз в неделю обязательно. Двор у нас был демократический, суетливый – у одних дверей стирали, у других раздували утюг, у третьих выбивали тюфяки… В общей сутолоке дым и огонь из трубы не привлекали внимания. Только хозяйская собачонка почему-то бешено накидывалась, злобно лаяла, пока кипяток не начинал брызгать ей в морду.
Привез я этот самовар и сюда, во Францию, не желая расставаться с любимцем. Долго спорил с таможенным чиновником, что вещь эта не составит конкуренции французской промышленности, усиленно тыкал пальцем на сломанный кран, наливал даже внутрь воды, чтобы продемонстрировать течь.