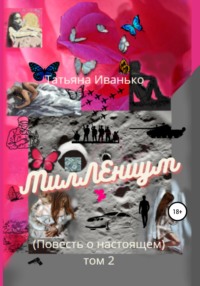
МилЛЕниум (Повесть о настоящем) Том 2
Стрельба приблизилась к нам вплотную. И уже все мы не медсанчасть, а боевое подразделение.
Двенадцатого августа погибла Юля, вытаскивавшая из-под огня раненого бойца, я не видел как её убили, ребята видели, что её «снял» снайпер и с ней вместе и того раненого, которого она тащила.
Я увидел только её труп. И то только к ночи, когда по темноте ребята принесли его под наши защищённые мощным бетонным забором стены…
Так и не узнанная мною толком, не понятая. Я смотрел на её закинутое к потемневшему уже небу лицо, уже изменённое смертью и думал, что это первый близкий мне человек, кого я вижу мёртвым.
Но близкий ли? То, что происходило несколько раз между нами… не знаю, заставляло ли это её чувствовать ко мне хоть что-нибудь. Я сейчас ощущал только жалость. Я не хотел бы быть с ней, даже будь она жива. Мне было жаль её потерянной жизни, её молодости, даже мужа, который не дождётся её…
Мы похоронили её в дальнем углу двора, и вскоре там у нас образовалось небольшое кладбище.
Погиб и тот парень, что слушал нашу кассету…
А на пятый день нас осталось тридцать из пятидесяти шести. Оружие у нас было, припасы имелись тоже, но бой не прекращался почти целый день. Осколки от бетонной стены посекли мне щёку, в остальном я был невредим, в отличие от большинства моих товарищей, которые все были ранены, кто легче, кто тяжелее. Но, главное, погиб доктор, мой наставник и учитель здесь, Андрей Андреевич, ему было всего тридцать пять…
Теперь главным и единственным доктором был я. Меня пытались беречь, прикрывать собой.
– Ребят, я один тут останусь? Вы не дурите, дайте мне позицию, я встану с вами.
– Здесь госпиталь, санчасть, ты поберёгся бы, Лютер, – неизменно говорили они.
– Какая санчасть!? Даже флаг наш с красным крестом давно сбили. Мы все бойцы, что я вам девчонка, что ли?
В конце-концов, через полтора дня я уже воевал наравне со всеми.
Нас обстреляли из гранатомётов, снеся напрочь второй этаж, вместе с десятком наших ребят. Едва стихли проклятые залпы, начала оседать пыль, мы бросились наверх по уцелевшими ступенькам… нет… здесь ничего уже не было, не было даже тел, их разнесло в пыль и мелкие ошмётки, которые не собрать, если только просеивать через сито, вместе с камнями стен…
На ночь мы спускались в подвал. Связиста нашего тоже убило, но капитан Шеламов, что взял командование, как старший по званию и вообще единственный теперь среди нас офицер, он поддерживал связь с командованием. Но в разговор вклинивались боевики «чехи», как называли чеченцев, хотя среди них, бандитов, много было совсем и не чеченцев. Как и среди нашего всё уменьшавшегося гарнизона были и лезгины, и кабардинцы. В жизни не разобрался бы, да и не надумал бы спросить, но они рассказали сами.
Так вот, «чехи» всё время заунывно и с сильным акцентом, что уже заставляло подозревать в них не чеченцев, настаивали, уговаривали, чтобы мы сдались и вышли из здания, окружённого ими.
Двоих тяжелораненых пришлось оперировать под огнём, под падающими с потолка в подвале пылью и кусочками цемента на содрогающемся от взрывов столе. Девушки теперь не выходили отсюда, помогали мне в операциях и теперь ухаживали за ранеными.
Если раненые и выживут – львиная доля заслужена девчонками.
Один был ранен в бедро, и из повреждённой артерии кровь хлестала фонтаном, у меня были считанные секунды на то, чтобы остановить кровь, ушить сосуд… я стал как робот и сделал всё меньше чем за минуту.
Второго ранило в шею. Это было ещё хуже… Но я будто бы нарочно по ночам повторял анатомическую зубрёжку в своей голове, я помнил все мышцы и сосуды шеи так, что мог оперировать на ощупь, не глядя…
Оба парня живы и начали веселеть день ото дня.
Но бой вокруг нас становился всё гуще. Мы как в Брестской крепости были здесь, мы мешали боевикам тем, что постоянно расстреливали их тылы…
Капитана убило пятнадцатого. Снайпер пристрелял восточную часть нашего двора, уже обнажившегося после обстрела гранатомётами…
Мы не могли забрать тело капитана, превращённое в кровавое решето, быстро чернеющее на солнце, до ночи… мухи кружили над ним роем, мухи не боятся пуль и осколков…
– Лютер, спой. Может подыхать завтра, так с музыкой, оно веселее…
– Баста, карапузики! Кончилися танцы! – засмеялись все, вспомнив любимый нами в детстве музыкальный мультик про Волка и семерых козлят-рокеров. – Помирать так с музыкой! Запевайте, братцы!
И я пою. А мои товарищи, давно не бритые толком, не мытые, но не голодные хотя бы, подпевают мне…
Коля из Ленинграда, то есть Петербурга, конечно, очень ритмично «играет» за барабаны, по картонной коробке, откуда мы вынули сегодня тушёнку, и пустым мискам. И мне кажется, что звучим мы сегодня лучше, чем в самые лучшие времена и на «Гибсонах» и «Таме»…
Назавтра к нам прибежала большущая пыльная собаченция. Откуда она взялась, как осталась жива, было непонятно, но на третий день успокоенная и сытая она неожиданно ощенилась четырьмя щенками…
Девчонки хохотали:
– В госпиталь же бежала, бабёнка наша… – и ласково трепали здоровенную рыжеватую псину за кривыми ушами, от чего от её пахучей шкуры в нашем подвале прибавлялось пыли и вони.
А Батя вылавливал для Волны кусочки тушёнки из своей миски и кормил с руки, а она облизывала его заскорузлые пальцы, далеко высовывая язык, блестящий и розовый.
Мы устроили собачью семью в одной из коробок, дав всем имена. Мамашу звали теперь Волына, одного из щенков, Порох, второго Пуля, третьего Град, а четвёртого Динамит. Кто из них какого был пола, мы не разбирались.
Нашего старшину Батю убили утром шестнадцатого августа. Рядом разорвался снаряд, снеся и изрядную часть угла нашего здания. Батю взрывом отбросило почти на десять метров и мы, стреляя из всех окон, превратив их в узкие бойницы, заложив смотанными матрасами и подушками, целый день смотрели на развороченное взрывом тело Бати, вначале ярко-красное от крови, потом всё более темнеющее, всё больше мух кружилось над ним… а потом нас накрыло огнём и тело Бати завалило осколками, похоронив под собой…
До тех пор пока нам не заглушили связь, мы просили подмоги, говорили, что у нас раненые, женщины, нам отвечали: «Держитесь, помощь близко»…
Мы держались. Но когда связь перестала работать, мы поняли, что помощь к нам не придёт, потому что теперь будут считать, что мы все погибли…
Нас осталось восемь: Коля Маслов из Питера, Генка Варварин из Твери, Сашка Глушко из Ярославля, Света и Таня из Калуги. И двое тяжелораненых, один из Омска Славка Волков, другой Мишка Николенко, которые, впрочем, на пятый день встали и, тоже устроившись у бойниц, воевали как все.
Теперь мы воюем деловито и спокойно, бьём «без нерва», выискивая, откуда ведётся огонь по нам, и лупим прямо туда…
– Ты похудела очень, Лёля, совсем не ешь, – сказал Кирилл.
– Надо же, разглядел, – хмыкнула я. – Ем я, не волнуйся.
Утро и он везёт меня на работу. Я благодарна ему. За то, что не оставляет меня одну сейчас. Те недели, что я была одна, пока искала Лёню, я спустилась в глубины ада. Моего собственного… но то ли ещё будет…
То, что я виновата, я знала всегда, ещё до того как всё началось между нами с Кириллом, с того самого дня как я впервые почувствовала волнение в его присутствии, тогда, летом, в Н-ске…
Что я чудовище ничем не достойное Лёни, я тоже знала. Но как мне теперь было существовать, когда он оторвался от моей жизни, унёс с собой всё, всё, что я чувствовала, чего хотела, о чём мечтала. Всё моё будущее, которого я никогда не мыслила без него.
Теперь мне не оставалось ничего. Он не простит меня, то, что я сделала, нельзя простить, ничем нельзя оправдать, объяснить, понять. Я и сама не понимала. И будь Лёня рядом, не знай, он ничего, всё продолжалось бы…
Но не теперь. Я могла любить Кирилла, пока Лёня был рядом… Будто это не два человека, а один, но в разных ипостасях. Один идеальный, а другой обыкновенный, грешный, со всеми глупостями и низостями, присущими всем людям, всем, кроме Лёни…
В середине августа в Москву нагрянул дядя Валера. Он приехал ко мне, хотя и сказал, что проездом, но это точно было не так, он не спешил никуда, он провёл со мной много часов, весь день. Это был будний день, мы сходили в Зону, как мы звали Тропарёвскую Зону отдыха, прогуляться, он рассказывал о маме, о Ромашке, о бабушке и расспрашивал о Лёне, всё больше хмурясь, глядя на меня. Сам он теперь с друзьями организовал артель по производству мебели.
– Не знаю, что выйдет из этого, Лёля, я конструирую в зависимости от пожеланий заказчика, потом с мастерами… словом, тебе не интересно будет, но пока заказы есть вроде и неплохо…
– Бандиты не достают?
Он посмотрел на меня:
– Бандиты начали в кресла депутатов пересаживаться… – хмуро произнёс он. – Но… С другой стороны, не платить хотя бы дважды…
Мы пообедали, купив в «Лейпциге», до которого дошли через Зону напрямик, разнообразных вкусностей: чудесной колбасы, копчёной осетрины, сыра и даже вина. Я и кофе сварила на плитке в нашей маленькой турке, Лёня никогда не любил, я варила для себя.
– Лёль, где Лёня? – спросил, наконец, дядя Валера, пока я убирала посуду.
Я посмотрела на него… если бы я не сделала этого, я смогла бы не сказать… но своими глазами он тут же проник мне в самое сердце и я заплакала…
Всё, ноги не удержали, я села на постель, дядя Валера рядом со мной, обняв мои затрясшиеся плечи.
Я впервые заплакала с того дня, как всё разрушилось, и поэтому поток моих слёз был неукротим…
– Так и знал… чёрт… – пробормотал Дядя Валера, обнимая меня, ревущую в голос. Я чувствую, как намочила ему рубашку на плече… Он не на сборах? Где он?
Но я не могла произнести ни слова.
– Из-за чего поссорились хотя бы? – он отводит мои волосы, силясь заглянуть в лицо.
– Мы не поссорились… Я… Лёня в Чечню уехал… воевать… – я пролепетала, подняв глаза на него.
– Почему?.. Сам? Или?.. Почему он поехал?.. – недоумение сделало его лицо даже бледным. – Подожди… Я не понимаю, как его могли взять?!..
– Он сам! Он сам! Сам! – вскричала я в отчаянии. Надо всё сказать ему, пусть знает, до чего довела Лёню его милая «Лула-Мэй»… – Из-за меня! От меня! я…
– Что сделала-то?.. Вы же… О, Боже… – дядя Валера побледнел ещё больше, обмер даже, понимая, наконец… сразу оценив масштабы моего преступления… и ничего не стал расспрашивать больше.
Я приехал, чтобы отвезти Лёлю на дежурство, я делал так всё время, я каждый день должен был видеть её, и я чувствовал, что это нужно и ей, чтобы я появлялся ежедневно. Я отвозил её на дежурства, я встречал её по утрам, отвозил домой, в общагу, опаздывая на работу, вызывая уже недоумение и гнев моей заместительницы, ведь за все годы за мной такое не водилось. В дни, когда Лёля свободна, я стараюсь освободиться пораньше, чтобы провести вечер с ней вдвоём, что тоже приводит Галину Мироновну в сердитое расположение.
Вот и сегодня, по обыкновению, я приехал сюда, поднялся сегодня на лифте, его включили неделю назад, но я и так не замечал подъёма по этой узкой, бесконечной лестнице, по которой навстречу спускались молодые, а иногда и не очень молодые люди в тапках и домашней одежде, с кастрюлями нередко…
Дверь была не заперта, Лёля оставляла открытой, когда знала, что я вот-вот приду. Я не застал её в комнате, зато застал «дядю Валеру»… Он обернулся от окна, у которого стоял, глядя на Москву, как на ладони лежащую перед глазами. Увидев меня, кажется, не удивился, будто предполагал, поджидал даже:
– Добрый вечер, Кирилл Иванович, – сказал он, разворачиваясь и буравя меня острым взглядом, будто всё знает обо мне…
– Добрый вечер, кажется… Валерий? – я отлично помню его имя, как и его самого, но мне хотелось уязвить его тем, что я будто бы забыл…
– Валерий-Валерий, – его губы в злую дугу выгнулись гневом, верно, я Лёлин отчим. А ты – отец Лёни, – он перешёл на «ты», бледнея и сверкая глазами, как стальными стилетами.
– Именно так.
– Именно… – он прищурился с вызовом глядя на меня.
Неужели думаешь, я тебя боюсь, я в два раза больше тебя?!
– Что тебе надо, мужик?! – закипая, спросил я уже без обиняков, выпячивая грудь, чтобы он оценил, насколько я больше него.
Он спокойно и смотрит на меня и только во взгляде его горит пламя:
– Я – то мужик, а вот ты что делаешь?!.. Ты что делаешь?! – чеканя слова, отлетающие как металлические диски на каменный пол, произнёс он, нагло требуя, похоже, ответа от меня.
– Какого хрена тебе надо?! Ты указывать мне будешь?! – взорвался я, он ещё спрашивать будет! Да кто ты есть?!
По его лицу прошла нервом молния:
– Буду указывать, если у тебя крышу снесло! Я ещё тем летом понял, что у тебя на уме… Но как ты не остановился-то?!.. – его глаза голосуют меня вслед за словами. – Ты что к детям лезешь? Как ты мог между ними встать? Что, только «мои желания», совсем ничего святого нет? Хлюст московский, – последнее сказал, будто сплюнул.
– Да я Н-ский, как и ты! – выкрикнул я. Что, ещё провинциальную ненависть к москвичам будешь тут в ход пускать, тоже мне, Робин Гуд нравственности выискался!
– Хрена ты Н-ский, сволота столичная! – он скривился пренебрежительно. – Вали давай, пока Лёля не вышла, – я вижу, у него сжимаются кулаки. – И не приближайся больше!
Ну, уж этого я стерпеть не мог:
– Ты спятил, что ли, какого лешего ты распоряжаешься здесь?!
Я хотел схватить его за рубашку и вытолкать вон из Лёлиной комнаты, но он увернулся, перехватив мою руку, айкидошник хренов…
Когда я выключила воду в ванной, где смывала остатки слёз, я услышала грохот в моей комнате… И сразу догадалась, что происходит… Что же они дерутся-то все! Ведь всё переломают мне сейчас…
Всё оказалось ещё хуже: не только всё переломали, но и сами с окровавленными уже лицами, поднимались из противоположных углов, кровью капая на облезлый паркет, сейчас впитается в лысые досочки…
– Что ж вы делаете… – прошептала я, хватаясь за голову. – Хватит, остановитесь…
Я посмотрел на Лёлю, явные следы слёз на её прекрасном лице и разозлился ещё больше…
– Что тут, день исповедания грешников? – скривился я, он ещё и Лёлю достал, плакать заставил… Чёрт подери, глаз начинает заплывать…
– Я тебя прибью сейчас, грешник! – белый от злости орёт мой противник.
И мы бросились бы друг на друга снова, но Лёлин крик остановил нас:
– Дядя Валера!.. Кирилл! Остановитесь оба! Что вы творите!.. Кирилл уйди!.. уйди сейчас же!
Я смотрю на неё, но она не отвечает мне взглядом. Я понимаю, что надо уйти. Уйти, чёрт!.. Чёрт! Чёрт подери тебя, гад с прозрачными глазами! Хренов праведник!
Кирилл вышел, так и не встретив моего взгляда, хлопнув хлипкой дверью, и второй в коридор… Я растерянно огляделась по сторонам:
– Дядя Валера, что ж вы натворили… зачем вы… Господи, будто этим что-нибудь исправишь… ох… Ничего же не исправишь… Ничего… – я села на то, что было нашей отличной вечной «олимпийской» кроватью, а теперь осталась груда не очень симпатичных обломков с торчащими внутренностями толстых ДСП и матраса, свалившегося покрывала и белья. Хорошо, что на дежурство надо, а с этим потом буду разбираться…
Я посмотрела на дядю Валеру, он подошёл к зеркалу, уцелевшему чудом, видимо потому что было прибито к стене задней деревянной стороной. Он вытирает кровь с разбитой губы тылом ладони:
– Всё же и ему я раскрасил рожу изрядно, – самодовольно говорит он.
Я подошла к нему:
– Дайте посмотрю, – сказала я, коснувшись его плеч, он ростом с меня и ведь бросился же драться…
Он повернулся ко мне, пытается увидеть мои глаза:
– Надеюсь, ты не очень расстроилась, Лула-Мэй? – проговорил он.
– Не болтайте, – к счастью серьёзных ран у него не было. Ссадины на руках, на губе я намазала зелёнкой, даже холода взять не откуда, холодильник у Люськи… да и времени холод держать нет, мне пора на дежурство, поедет дядя Валера домой с раздутой рожей…
– Ну… теперь все решат, что я алкаш… Господи, что ж за жизнь, – он засмеялся, снова разглядывая себя в зеркале. – Помочь тебе убрать здесь всё?
– Некогда уже, мне на работу пора, не то опоздаю.
Он посмотрел на часы:
– Да и я, пожалуй, поеду. Но сначала провожу тебя, не против?
– Одеваюсь.
Мы вышли из общежития, заперев весь кавардак до завтра. К метро «Коньково» пошли пешком. Автобуса ждать будешь дольше… Солнце сияет как ни в чём, ни бывало, у Солнца всё хорошо, как всегда…
– Дядь Валер, не говорите дома… ну… В-общем… Ничего не говорите, ладно? Лёня… через три месяца вернётся, тогда…
Он посмотрел на меня, мне стыдно, что он понял всё. Перед ним особенно стыдно. Стать предательницей – одно, но другое, когда все узнают об этом, особенно те, чьё мнение важно для тебя…
– Не надо терзаться, Лёля, – вдруг говорит он, помолчав довольно продолжительное время. – Люди… совершают ошибки. Все люди. Нельзя прожить всю жизнь и ни разу не оступиться, не промокнуть под дождём, не промочить ноги в луже. Поэтому нас и изгнали из рая… не то, пребывали бы там до сих пор.
Я засмеялась, чувствуя, что снова подкатывают слёзы: ОН прощает меня?
– Тогда никакой истории не было бы! Для чего тогда Бог человека-то создал? Со скуки бы помер он от нас безгрешных в бесконечном существовании своём…
И дядя Валера засмеялся тоже, обняв меня за плечи:
– Ну, с юмором всё переживём, поди!
Я ничего не сказала. Если бы я оступилась… Если бы это была ошибка… Но я знала задолго до того, как всё произошло, к чему идёт. Всё чувствовала, но мне нравилось… Мне так это нравилось всё… Женское тщеславие хуже многих пороков, что заставляют мужчин совершать преступления.
Ты Кирилла отлупил, а надо было меня… А ты меня жалеешь, как к ребёнку относишься… Я совсем не жертва. Я такая же преступница… Даже хуже. Если бы я никогда не любила Лёню, я предала бы только его, а так… я предала и себя…
Мне пришлось не ехать на работу завтра, отменить намеченный учёный совет, всё из-за разбитого лица. Хороший знакомый открыл мне больничный с моими «травмами». Галина Мироновна позвонила сама:
– Что с тобой? Может приехать? Ты сроду больничных не брал, – в беспокойстве спросила она.
– Не надо приезжать, Галя, отлежусь и выйду. Простуда небольшая…
– Какая простуда?! Что ты врёшь?! – воскликнула Галина, приглушая голос впрочем, с кафедры звонит. – Какая простуда тебя возьмёт! Что происходит?! Пьёшь, что ли?! Ты же непьющий…
– Всё, Галина Мироновна, – отрезал я, будет ещё допытываться, всегда считала себя вправе потому, что некогда мы переспали несколько раз, – я позвоню, как поправлюсь…
На моё лицо с утра смотреть было невозможно, но я почти и не смотрел на себя в зеркало, поехал встретить Лёлю с дежурства.
– Тебе идёт, – сказала она, намекая на мои ссадины, когда вышла из дверей роддома.
Я усмехнулся:
– Ну, так… Шрамы украшают мужчину. Злишься?
– На что?
– Что твой отчим застал меня у тебя?
– Он и так всё знал. Он приехал, уже всё знал, может не совсем твёрдо, но…
Знал, правда… Чёрт проницательный! И есть ему дело до всего! Сидел бы в Н-ске… И Юля ему досталась, и к Лёле ключик имеет!
Пока мы ехали до её общежития, она клевала носом – бессонная ночь. Я спросил, как дежурство. Она всегда рассказывала мне о работе. Я рассказывал ей. Я умею рассказать увлекательно и занятно. Тем более, в моей специальности трагедий не происходит почти никогда, случаи чаще забавные, чем печальные. Хотя случаются, конечно, и драмы.
Мы открыли двери в их общежитскую комнату. Вчера я не обратил внимания, во что она превратилась из-за нашей драки. Мне было не до этих мелочей. Но сегодня… Сегодня я обрадовался: жить здесь она не сможет.
Да… поначалу мы попытались разобрать сломанную кровать, но оказалось, что и матрас сломан, на нём было невозможно даже сидеть теперь. А вторая, что служила «диваном» и раньше была сломана, поэтому и «работала» диваном… и стол был покорёжен, целыми были только те самые когда-то новые стулья, на один из которых я и села в усталом изнеможении.
– Что же вы… натворили… Что вы вообще драться-то взялись? Взрослые дядьки… – с досадой проговорила я. Последнее моё убежище разгромили… что мне теперь на полу голом спать?…
– Ну, твоему дяде Валере особенно не за что меня любить-то…
Кирилл сел на второй стул, посмотрел на меня, наклонившись вперёд:
– Поедем домой, Лёля. Ты не можешь здесь остаться.
– Я не могу с тобой ехать.
– Лёля… Тебе некуда идти.
– Всегда есть куда идти, – упрямство выныривает снова.
– Это глупость, Лёля, – настаивал я. – Ты не пойдёшь со мной, потому что ты виноватой себя считаешь…
– Не надо, Кирилл, ничего не говори… Поедем к тебе, – устало согласилась она, поднимаясь с ужасного коричневого стула с железными ногами. Да всё тут было ужасное, хорошо, что разломали, не за что цепляться теперь… – Но… я вернусь сюда в ближайшие дни и… это не значит, что всё возобновляется, ты понимаешь?
Боже, спасибо! Как ты кстати появился, «дядя Валера»! Я в жизни бы её на Сущевский вал не заманил, если бы не ты и разгром, который мы вдвоём учинили в этой комнатушке…
Когда мы приехали домой, Лёля пошла в ванную, хотя всегда принимала душ на работе, я спросил, будет ли есть. Она отказалась.
Ничего не ест…
Когда она вышла из ванной, одетая в мой халат, который мог завернуться вокруг неё не то что два, но три раза, удивлённо посмотрела на меня:
– Ты не поехал на работу?
– С таким лицом лучше не показываться подчинённым и тем более начальству. Не находишь? – сказал я, – спать не будешь?
– Буду… Так устала, не могу даже спать или… Ох, Кирилл, какой это кошмар вернуться сюда…
С этими словами, она ушла в их с Алёшей комнату. Ничего, милая, всё проходит, и это пройдёт, главное, что ты не ненавидишь меня, что согласилась вернуться…
Глава 4. Ничего не останется, если
В подвале, где теперь мы только и можем укрываться от стрельбы и дневного зноя, уже нет прохлады. Её, должно быть и не было, кажется, что жара, как густой мёд, вот-вот окончательно потопит нас, как мух.
Мух всё больше. Людей всё меньше, но количество мух, огромных, неторопливых, радужно сине-зелёных, сытых, растёт в геометрической прогрессии. Здесь наступил рай для этих созданий. Ленивые и объевшиеся трупоеды процветают, лезут к живым, будто проверяя, не поступила ли уже новая пожива… А мы скоро станем вонять почти как мертвецы или даже хуже: воды нет, нам скоро совсем нечего будет пить, где уж вымыться…
Но мы принюхались и сладковатому запаху гниющей плоти, который наполняет плотную раскалённую атмосферу вместо пряного чарующего аромата трав и цветов, земли и бурной речной воды, который всегда был здесь, в этих краях. В нашем подвале воняет нами. И это лучше, это всё же запахи жизни.
До воды как-то надо добраться. Мы уже страдаем от жажды. Цистерна, на разбитой платформе изуродованного взрывом тягача, стала нам видна через разрушенную стену забора, но до неё метров тридцать, а то и пятьдесят. Но главное, мы не знаем, есть ли там вода…
– Лютер, а кто такая Лёля? – спросил Коля Маслов, или как мы стали его звать Масёл, когда мы сели, наконец, поесть, спустившись в наш подвал, что служил нам и спальней, и столовой, и лазаретом.
После его вопроса все захохотали, я удивлённо посмотрел на товарищей:
– Чего вы? – я оглядываю их, мне невдомёк, откуда они могут знать о Лёле.
Они, хохоча, оглядываются друг на друга, тоже мне, уши в пыли, шеи грязные, на лицах уже заскорузла грязь, а туда же – насмехаться!
– Да так, ничего, – он усмехнулся, глядя в свою миску с гретой тушёнкой, – просто ты каждую ночь зовёшь: «Лёля, Лёля!», одолел! – он посмотрел на меня, трясясь от смеха. – Жена, что ль? Ты женатый как мы поняли…
Я залился краской. Надо же, во сне разговаривать стал, никогда это за мной не водилось…
– Не жена, наверное, поэтому и зовёт! – все опять заржали, как кони. – Зазноба тайная!
– От них обеих сюда и свалил, – подхватили девчонки, подмигивая друг другу, поделились уже впечатлениями обо мне…
Варвара, Гена Варварин, хохотал, морщась, вчера ему сильно задело лицо, по касательной, но рана свежая ещё, болит…
Глушко мы прозвали Галушкой, смеётся, булькая, чуть не давясь перловкой в котелке.
– Ты не стесняйся, Лютер, какие тут тайны у нас друг от друга теперь? Так что, жена?
– Жена… – я наклонился, чтобы не очень видели моё пунцовое лицо.
– Не переживай, дождётся. Если судьба нам отсюда выбраться, дождётся, – Мишку Николенко, мы зовём Коленкой.
Только Слава Волков и девочки остались без прозвищ, у него фамилия была лучше любого прозвища, а девушки – они девушки, как можно им прозвища давать?
Они обе погибнут завтра, когда ураганным огнём обрушатся на нас какие-то свежие силы духов… Когда не останется ни одного, кто не был бы ранен хотя бы легко, кроме меня.

