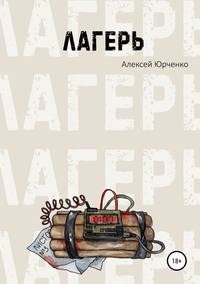
Лагерь
Практика публичной казни военнопленных существовала в Державе с первых дней войны. Но не казнь где-то в столице Державы на глазах у местных жителей. Нет, все гораздо чудовищнее. Зачем пугать собственное население? Надо вызвать ужас у врага. Казнь проходила в столице нашей Басарской Республики на Центральной площади. Спросите, как Держава попадает на главную площадь страны? Ответ, мне кажется, очевиден. По воздуху. Военнопленных сбрасывают с бомбардировщика точно на вымощенную плиткой площадь. Но все не так просто. Их предварительно обвязывают взрывчаткой и взрывают, пока те не столкнутся с землей. Ошметки людей дождем из крови и градом из костей, хрящей и внутренних органов проливаются на Центральную площадь города. И предварительно вся страна посредством листовок узнает, когда это произойдет. Вот где действительно запрятана вся безжалостность державного режима. Ведь они могли просто неожиданно для всех вышвырнуть за борт пленника и улететь к себе на базу. Но им этого недостаточно. Они предупреждают каждого, что в такой-то день, в такое-то время ожидаются осадки в виде мелко разорванной человечины. И ты с этим знанием живешь. Кто-то закрывается дома, зашторивает окна, прячет детей и не выходит на улицу, пока последние человеческие останки не будут убраны. Кто-то выбирает укромную обзорную площадку и с непонятными мне чувствами впитывает всю жестокую картину. В первый год войны по инициативе одного (простите меня, по-другому не могу выразиться) полоумного чиновника был выпущен указ, по которому «в целях поднятия всеобщей ненависти к Державе» к площади во время казни стягивали, как стадо баранов, простой народ. В истерике, всхлипах и обмороках толпа ужасалась увиденной жестокости. Слава Богу, вскоре эту дикость запретили. Отдельно остановлюсь на том, что все знали, кого именно разорвет в клочья над плиткой нашего города. И родственники, и просто знакомые. Мне кажется, это самая большая пытка для близких и самая большая «находка» для карателей Державы. Вы думаете, подобное варварство вызовет ненависть у родственников к Державе? Скорее всего, вы правы, только с одним большим «но». Держава далеко. Ее не видно. А ненависть любит, чтобы ее объект можно было потрогать. Помните, в чем суть всех детских споров после драки? Правильно. Кто первый начал? И приходит на ум одно: начали первые мы – жители Басарской Республики. А дальше мысли идут по одной истоптанной тропинке: «Подождите, я не начинал. Я вообще не знал, что будет Революция, пока не посмотрел новости. Я хотел перемен, но не такой ценой. Виновата та группка людей в камуфляжах, что устроила весь беспредел и которая сейчас у власти. Именно она забрала у меня сына». И вот недавние тихие сторонники Революции начинают ненавидеть ее лидеров. Моего папу хотели убить дважды. Такие изменения происходят, конечно, не со всеми, но с пугающим постоянством. Смотреть на казнь многие родственники и близкие отказываются. Кому понравится, когда твоя родная плоть и кровь превращается в месиво? Кто-то приходит. Начинают смотреть стоя, а заканчивают лежа на грязной земле, беззвучно рыдая и захлебываясь настигнутыми страданиями в окружении толпы сочувствующих. Последний год прошел без казней. Целый год. А завтра разлетятся на куски сразу трое. Такого еще не было.
5
Учеба второй день вылетала в трубу. Если вчера все оживленно говорили о концерте и нашем выступлении, то сегодня полушепотом и с тихим страхом внутри все беседы велись только о предстоящей казни.
Людмила Петровна, видя, как взволнован класс, особо не пыталась донести до нас науку. Мы общались на околовоенные темы. Она рассказывала нам о героях войны, о патриотизме и жертвенности. Потом учительница втянула нас в дискуссию, о которой я хочу немного рассказать. Заодно со всем моим классом познакомитесь.
– Скажите, Людмила Петровна, вот если мой родственник погибнет во имя нашей Родины, смогу ли я любить ее так же, как раньше? – спросил Кирилл, наш вечный спорщик и зачинщик подобных горячих дискуссий. Причем, полагаю, ему нравился сам процесс спора, а на результат было все равно.
Наша Люда никогда сама особо не встревала в полемику. Она лишь деликатно направляла и подталкивала каждого из учеников на построение собственного мнения, которое мы обязательно должны были высказать перед всеми. Учительница загадочно улыбнулась и посмотрела за спину Даника, где сидел Аркаша, которого все называли «политолог». По сути, Аркаша не был великим эрудитом. Все, что он мог, – это хвастаться и во всех подобных спорах припоминать, что он единственный, кто прочитал «Государство» Платона. Я обернулась и увидела, как в старом синем свитере и в очках с толстой оправой, с небрежной копной слипшихся жирных волос на голове тянул руку вверх наш политолог.
Людмила Петровна подошла к парте, где сидел Аркадий, и кивнула в его сторону.
– Если ты сам любишь свою Родину, то смерть близкого ничего не изменит в тебе. А даже наоборот.
Класс зашелся недовольным шумом.
– Хороша Родина, что отбирает у тебя близких! – выкрикнул Васька.
Васька дружил с Кириллом и сидел с ним за одной партой прямо перед учительским столом. Такой же оболтус и лентяй, как его друг, разве что чуть поспокойнее, и самый бедный из всех нас, чего совершенно не стеснялся, а иногда умудрялся этим даже нелепо бравировать.
Людмила Петровна обернулась к первой парте, где сидели Кирилл с Васькой. Ее тонкие губы вновь изобразили легкую улыбку. Затем, не произнося ни звука, она прикоснулась двумя указательными пальцами к губам, показывая, что надо немного успокоиться, и подошла к нашей с Даником парте. Ее маленькая ладонь легла на наш стол рядом с Данилой. Так она предоставляла слово. Я восхищалась нашей учительницей в такие минуты, когда она, словно дирижер, ловко руководила нашими суждениями и приводила нас в итоге к самым интересным умозаключениям.
– Я считаю, – начал Даник, – Родина и есть наши близкие, знакомые. Если кого-то не стало, то значит, Родина уменьшилась в размерах, и за нее надо биться с еще большей страстью.
Учительница сделала одобрительный кивок, который говорил только о том, что прозвучало весьма взрослое суждение, но это не значит, что наша Люда с ним согласна. Она развернулась и подошла к парте, где сидели Маша и Даша, две сестры-близняшки. Как и положено в их статусе, сестры были одинаково одеты, носили одинаковые прически и даже своей заумностью совсем не отличались друг от друга. Разве только Даша была чуть смелее своей сестры. Они казались умными девочками, но только в учебе, а в каких-то других вопросах совсем не разбирались. Единственное, почему я завидовала двум сестрам, – роскошные густые темно-русые волосы почти до пояса.
– Это же ужасно, когда кто-то знакомый умирает, – жалобным и тонким голосом произнесла Даша.
Людмила Петровна от близняшек ушла к Саше, самому красивому мальчику в классе. Я тихо восторгалась его внешностью, правильными чертами, всегда идеально уложенными светлыми волосами, галантными манерами. Ему мешал один только минус – просто какое-то запредельное занудство. Он любил только свои книги и тишину, которая его окружала во время чтения. И больше ничего.
– Смерть ужасна по своей сути, это бесспорно, – начал он свою болтовню, – но мы уже давно выстроили эти институты управления людьми, избрали для себя ценности, сформировали устои…
Дальше я его уже не слушала, переведя взгляд на учительницу. Людмила Петровна стояла напротив Саши, но, кажется, без особого удовольствия внимала его словам. Мне она безумно нравилась. Признаюсь откровенно, как бы плохо это ни звучало, но порой я даже расстраивалась, что она не моя мама. Такая вдумчивая, понимающая, добрая и удивительно обаятельная со всегда прекрасно подобранными нарядами. Сегодня она пришла в вязаном белом платье и белых сапожках. Гардероб Людмилы Петровны не обновлялся и остался, скорее всего, от ее прошлой довоенной жизни, но она старательно его берегла.
Потом настал мой черед ораторствовать. Вот поразительно! У меня так складно выстраиваются мысли на бумаге, но так безобразно я периодически их высказываю. Я пробурчала что-то несвязное и по смыслу схожее с тем, о чем говорили близняшки.
После меня учительница дала слово моей лучшей подруге Илоне, или просто Иле. Иля мне нравилась прежде всего своей чрезвычайной мягкостью и скромностью. Она всегда приходила в класс в таком добром и немного грустном настроении. Еще меня задевало то, что она не выделялась красотой и, пожалуй, в классе была самой несимпатичной девочкой. Внимание мальчиками нашего класса ей совсем не уделялось. Мне становилось жалко Илю, когда на перемене меня обхаживал Данила или Кирилл, а она сидела за партой, уткнувшись в книгу, рядом с упомянутым мной занудным Сашей. Иля высказала примерно такие же, как и я, мысли, только сделав это намного красноречивее и изящнее. Она отметила бесценность человеческой жизни и то, что никакие созданные искусственно самим человеком институты не будут важнее самой жизни.
Последней по традиции взяла слово Василина. Она сидела прямо за мной вместе с нашим политологом. Самая красивая девочка класса. Было в ней что-то от ведьмы: иссиня-черные длинные волосы, темные глаза, гладкая бледная кожа. Завидовала ли я ей? Не все так просто. У нее был невыносимый характер. Нахальная, с завышенной до небес самооценкой и, в довесок, глупая, как пробка. Как ляпнул однажды Аркаша ей то ли в шутку, то ли всерьез: «В тебя бы еще умные и светлые мысли запихнуть!».
– Война – мужское занятие. Главное, нас, женщин, в это пусть не впутывают, – с умным видом произнесла Василина свою очередную глупость. Я обернулась к ней и недовольно фыркнула, давая понять, что не оценила высказанную ей мысль.
– Всем спасибо, ребята, – заговорила учительница, – на сегодня все. Завтра на безделье не надейтесь.
– Людмила Петровна, можно вопрос? – выкрикнул Васька.
– Слушаю.
– Нам идти на казнь?
Учительница взяла влажную тряпку, повернулась к доске и стала медленно стирать выведенную мелом сегодняшнюю дату.
– Ребята, – начала она, не оборачиваясь, – подобное может пойти, как бы чудовищно это ни звучало, вам во благо. Я не могу сказать однозначно, что это вредно или опасно.
– Но это ведь ужас! – выкрикнула Василина.
– Ужас, – она повернулась к нам и оглядела каждого ученика в отдельности, – а я и не говорю, что увиденное вас не шокирует. Я говорю, что кто-то после казни может стать сильнее. Только еще раз повторю: надо основательно покопаться в себе и ясно понять, что это вам поможет.
– А если мы ошибемся?
– Если вы вдруг ошибетесь, то последствия будут печальными. Так что, если сомневаетесь, сидите дома.
Несмотря на то что казни до затишья проводились где-то раз в месяц, никто из нас их не видел. Только слышал по рассказам, видел по ошарашенным лицам возвращающихся с площади людей. Кирилл с Васькой хвастались, что им удалось попасть на площадь три года назад, но им никто не поверил. До четырнадцати лет нахождение на улице во время казни вообще запрещалось, и родителей, не усмотревших за своими отпрысками, крупно штрафовали. Когда ученики нашего класса стали по очереди отмечать четырнадцатилетие, казни стихли на целый год. Вплоть до сегодняшнего дня.
Когда ученики покинули класс, я подтолкнула Даню к учительскому столу, за которым заполняла журнал Людмила Петровна. Даня сдвинул брови, насупился и стал прятаться за моей спиной, смешно бормоча, что ему неловко. Людмила Петровна подняла на нас вопросительный взгляд. Я с укором посмотрела на Даню и подошла к учительнице.
– Людмила Петровна, мы хотим вас пригласить на ужин в эти выходные, – сказала я уверенно.
– Кто это мы?
– Я с Даней и наши родители.
Людмила Петровна посмотрела за мою спину, где поддакивал пораженный разрядом стеснительности Даник. Мило улыбнувшись, спустя мгновение раздумий она произнесла:
– Хорошо, я приду.
Мы вышли на улицу. Я сияла от счастья, представляя, как у нашей учительницы все сложится с дядей Никитой и мы будем часто проводить вечера вместе. Даник же в противовес мне погрузился в какие-то мрачные мысли.
– Ты не рад? – спросила я, рассматривая хмурое лицо друга.
– Чему? – растерянно спросил он.
– Что наша Люда будет с твоим папой?
– Во-первых, они просто поужинают, – ответил Даник сердито.
– Ах, это неважно, – подхваченная светлыми фантазиями о будущем, сказала я.
– Во-вторых, сейчас есть дела посерьезнее, – он холодно посмотрел на меня.
– Какие?
– Юля, ты пойдешь на казнь?
Я вмиг потускнела. Почему-то до этого вопроса, до этого взгляда Даника я даже не рассматривала вариант с походом на площадь, уверенная, что для меня он будет иметь печальные последствия, как сказала Людмила Петровна.
– А ты пойдешь?
– Да, – без раздумий ответил Даник.
Тогда он выглядел так мужественно, так великолепно, что я сразу произнесла:
– Я с тобой.
– Ты уверена?
– Я с тобой, – повторила я.
Даник даже не думал меня отговаривать.
– Хорошо. На площадь не пойдем. Пойдем на чердак многоэтажки, что чуть в стороне. Там хорошо все видно, но жутких деталей мы не различим.
Несмотря на ясный день, город был пуст. Серые потрескавшиеся стены домов выстраивали пустые коридоры улиц. Мартовское солнце отчаянно пыталось покрыть благоухающим светом угрюмый полуразваленный город. Голые прутья деревьев выстраивали деревянные решетки на пути к голубому небу. Природа только набиралась сил для первого весеннего вдоха. Прохладный ветер напоминал о совсем недавно ушедшей зиме.
Мы разошлись с Даней по домам, договорившись встретиться за час до прилета самолета. Дома мама усадила на коленки Славика и читала ему сказку, а брат тыкал пальчиком в картинки, узнавая знакомых героев. Папа еще утром ушел на работу и должен был вернуться не раньше вечера. Всех военных, не занятых в боевых действиях и охране территорий, созывали на площадь на каждую казнь. Они выстраивались в шеренгу и, как только подлетал самолет, прикладывали ладонь к виску, отдавая честь героям, погибающим за Родину у всех на глазах.
Я пообедала, переоделась и села на диван рядом с мамой и Славиком. Тут меня осенило, что мой поход с Даней на чердак не согласован с родителями. А ведь они совершенно точно против.
– Мама.
Мамочка перестала читать и посмотрела на меня.
– Я сегодня иду на казнь.
– Кто тебе такое сказал? – ее мягкий и напевный голос, которым она читала книгу, приобрел металлический отзвук.
– Сама решила.
– Ты с ума сошла. Никто никуда не идет.
– Я хочу быть там. С Даником.
– Он тоже идет?
– Да.
– Его отец знает?
– Нет. Дядя Никита уже на площади, скорее всего.
– Значит, и тебе, и Даниле я запрещаю даже думать об этом.
Мама говорила размеренно и твердо. Славик напряженно поглядывал то на маму, то на меня. Мамочка убрала книгу в сторону, сняла с колен брата и, встав передо мной, произнесла:
– Ты – ребенок и не должна все это видеть.
– Но по закону, – встряла я.
– Мне плевать на закон! – закричала она. – Слово матери для тебя должно быть законом!
Я представила, как Даник один сидит на чердаке и рыдает после увиденного, как его некому пожалеть. Отчаянная злость подступила к горлу:
– Значит, мне плевать на законы матери! – закричала я в ответ и выбежала из зала в свою комнату.
Хлопнув со всей силы дверью своей комнаты, я, не задумываясь, защелкнула замок, достала из сумки спортивную обувь и выпрыгнула из окна во двор. Словно подчиняясь какому-то зову, я мчалась по улицам к назначенному дому. Растрепанные волосы падали на лицо, развязавшийся шнурок на левой ноге норовил попасть под правую. Не останавливаясь, я неслась к чердаку, где меня никто, кроме Дани, бы не нашел. Ветхая, местами залатанная многоэтажка с треугольной темно-зеленой крышей стояла совсем рядом с площадью. Многие квартиры в ней пустовали – жизнь в малом одноэтажном доме в случае бомбежки кажется безопасней. Почти все жители ее переселились отсюда еще в первый год войны. Я вбежала в самый первый подъезд. Перепрыгивая сразу по две ступеньки, молнией пронеслась по лестнице и стояла у трухлявой деревянной двери, ведущей на чердак. Дверь оказалась не заперта. Рядом лежал огромный выломанный ржавый замок. Засовы издали противный протяжный писк, и мне открылась стандартная картина подобных заброшенных помещений: пыль, размашистая паутина над головой, мусор в виде пустых пакетов и бутылок, в углу кто-то давно спрятал шифер и другие стройматериалы, покрывшиеся со временем черными пятнами. Прямоугольник света вдали был тем окном на площадь, про которое говорил Даник. Я сделала шаг внутрь, и в нос ударил омерзительный запах сырости и гнили. Я стала пробираться к окну, стараясь не ступить в грязь и не попасться в разбросанные кругом нити паутины. Скрип каждого шага заставлял душу замирать. Внезапно я услышала дыхание. Чужое тяжелое чахоточное дыхание. Полумрак старого чердака старательно скрывал некоторые свои углы. Страх с каждой секундой все сильнее сковывал меня.
– Не бойся, – раздался справа от меня глухой слабый голос.
Я взвизгнула и отшатнулась в сторону. В углу я заметила едва различимый силуэт человека.
– Кто вы? – спросила я дрожащим голосом.
– Антон, – с трудом выговорил незнакомец и зашелся ужасным кашлем.
Почему-то, когда мужчина назвал свое имя, страх тотчас отхлынул от сердца, и я сделала шаг навстречу, чтобы получше разглядеть его.
– Не бойся, – вновь вымолвил незнакомец.
Я подошла еще ближе. Мужчина сидел в углу, опершись на стену. Обмотанный по несколько раз в оборванное тряпье, измазанный в саже и земле, с закатанными кверху усталыми глазами, он представлял собой удручающее зрелище.
– Кто вы? Что вы здесь делаете?
– Антон, – во второй раз повторил мужчина.
– Вам надо к врачу.
– Мне нельзя.
Я стала понимать, кого я встретила. Сбежавший два месяца назад пленник, солдат Державы. Тогда провели массовый досмотр вдоль и поперек всего города, но никого так и не отыскали. Солдат сильно исхудал за это время. Кожа на лице была туго натянута на череп, руки безжизненно свисали к полу, а тело билось от сильного жара. Я села на корточки напротив него.
– Я вас не выдам, – произнесла я.
– Спасибо, – он впервые посмотрел точно на меня.
– Как вы выжили здесь?
– Ко мне приходил человек из этого дома. Но его давно не было, – ответил солдат.
– Держите, – я протянула ему несколько оставшихся после обеда печений, что лежали в кармане кофты.
Тонкими пальцами он взял печенье и в знак благодарности улыбнулся. Солдат стал медленно поедать угощение. У него в животе сразу громко заурчало.
– Довольный, – сказал он, добавив: – Как тебя зовут?
– Юля, мне пятнадцать лет.
– Большая. Мне двадцать четыре.
Солдат съел все печенье, аккуратно вытер рукавом губы и, склонив голову на бок, стал засыпать.
– Теперь я буду к тебе приходить.
Он открыл глаза, но ничего не ответил. Его измученный взгляд сам сказал мне спасибо.
– Но тебе надо спрятаться на время, – выговорила я и только потом задумалась о сказанном.
Скоро здесь должен был появиться Даник. Я не хотела, чтобы он видел солдата Державы. Я не верила, что мой друг способен молчать. Скорее, он тут же побежит в полицию или сразу к папе. Мой искалеченный войной мозг даже допускал мысль, что он лично убьет Антона прямо здесь на чердаке. И будет гордиться, что уничтожил своего первого державного солдата.
Я рассказала Антону о своем друге, о том, что мы договорились с ним посмотреть казнь на чердаке. На что он произнес:
– Вы будете смотреть казнь?
– Да.
– Зачем?
– Мы так решили, – не придумав ничего лучше, ответила я.
Оставшееся время до прихода Дани я занималась тем, что обхаживала своего нового знакомого. Я принесла ему большую бутылку воды из колонки, что стояла рядом с домом, обустроила новую удобную лежанку вдали от окна за стройматериалами, что должны были скрыть его от Дани и вообще от любого постороннего, кто сюда попадет. С огромным трудом я перетащила Антона, повесив его себе на плечи, в обустроенную лежанку. Волоча его, меня чуть не стошнило. От нового знакомого очень плохо пахло. Некая жуткая смесь из пота, мочи и даже плесени. Два месяца, проведенных взаперти, из бравого солдата сделали бомжа, готового в любой момент испустить дух.
– Прости, – догадываясь о своем состоянии, проговорил он, когда мы вместе с ним упали на новое место.
– Ничего. Мы все исправим. Ты, главное, до завтра дотяни. Я еды принесу. И мыло.
– Хорошо, – укладываясь удобнее, сказал Антон.
– Сиди тихо. Мне надо уходить, – я коснулась его руки и убежала к окну, чтобы не вызывать у Даника подозрений.
Сев на балку под окном, я стала ждать прихода друга. В тот момент я задумалась о том, что для меня настало время, когда придется врать по-крупному. Для каждого наступает такой момент. У меня он настал в пятнадцать лет. С этой самой секунды у меня появилась тайна, цена которой – человеческая жизнь. И я не знала, наступит ли день, когда я смогу поведать кому-либо про Антона.
Я посмотрела с окна вниз. К площади подтягивались первые зрители. Они заходили за специальные ограждения с металлической крышей, располагающиеся по краям площади. Те, кому не хватало места, ютились рядом. Взрыв – дело нешуточное, и жертв, помимо пленника, никто не хотел. У высоких дверей Дома Правительства выстроились несколько шеренг военных, переминающихся с ноги на ногу. Среди них в первых рядах должен был стоять и мой папа, но на таком расстоянии лица смывались в желтые пятна, и я его не нашла.
Наверху послышались шаги. Обернувшись, я увидела печального и напряженного Даню. Он явно нервничал. Перешагивая через заросли мусора, он подошел ко мне и аккуратно приобнял, чего никогда ранее не делал.
– Страшно? – спросил он.
– Волнительно, – ответила я, хотя понимала, что все мысли были сейчас заняты новым знакомым, лежащим в полуобморочном состоянии в противоположном углу чердака.
Я прислушалась к тишине в надежде не услышать в ней кашля или стонов Антона.
– Куда ты смотришь? – спросил Даня, озираясь в сторону груды стройматериалов.
– А? Ничего, – я перевела взгляд на друга, – скоро начнется?
Ответом на вопрос стал возникший гул самолета. Сначала тихий, далекий. Потом звук сделался мощнее, гуще. Он принялся заполнять этот чердак, этот город. Охваченные любопытством и страхом, мы высунулись из окна. В безоблачном небе вдали виднелось железное распятье, увеличивающее свои размеры с каждой секундой. На площади военные выпрямились и по команде приставили ладонь к виску. Зеваки под железным навесом вытягивали шеи к небу. Самолет мчался к площади, разрезая свободный воздух нашей страны, чтобы дать понять, что мы зря радуемся собственному единству. Шум турбин уже заложил уши. Трепещущее сердце вдруг застыло, будто покрывшись коркой льда, и только смерть могла заставить его оттаять и заработать вновь. Смерть трех человек, еще недавно защищавших мой покой. Самолет снизился.
– Отсек открылся, – произнес Даник, не отрывая взгляд от железной могущественной птицы.
Три человека устремились вниз к земле, к родной земле. Я вскрикнула и зажала рот двумя руками. Пленные летели вниз, к голове и ноге каждого были прицеплены тяжелые металлические грузы. Это делалось, чтобы жертвы падали точно в назначенное место и не отклонялись порывами ветра. Люди летели вниз, словно мешки с ненужным грузом, словно балласт. По моим щекам градом потекли слезы. Зажимая со всей силы руками рот, я быстро глянула на Даню. Он перестал бояться. По крайней мере, я не видела того страха, что был в преддверии казни. Он смотрел будто завороженный, как смотрят дети на фокусника. Пленники уже пролетели половину пути.
Хлопок. Второй. Толпа на площади мгновенно вздрогнула и отшатнулась.
Два человеческих тела разорвало на множество частей под фейерверк из фонтанирующей во все стороны крови. Крупные и едва различимые останки пленников теперь по отдельности ждали столкновения с землей. Четыре железных груза с привязанными к ним обрывками человеческой плоти первыми грохнулись на каменную плитку. Третья жертва упала на землю чуть позднее, так и не взорвавшись. Бездыханное тело лежало посередине площади. Рядом с ним пару мгновений еще падали конечности и обрывки других жертв. Устройство не сработало, подумала я, но сразу же раздался третий взрыв. Последнего пленника подбросило вверх, и его части разлетелись по площади. Как улетел самолет, я не заметила.
– Господи! – прокричала я, сделала шаг назад и, споткнувшись, упала на пол, но тут же подскочила на ноги. – Господи!
Даник медленно повернулся, глубоко задумавшись. Я же, напротив, не знала, куда себя деть. Меня грыз изнутри ужас, проникающий от сердца во все потаенные уголки души. Каждый участок тела словно бился в отчаянном припадке.
– Что ты молчишь?! – неистово закричала я, вытирая ладонями струящиеся по лицу слезы.