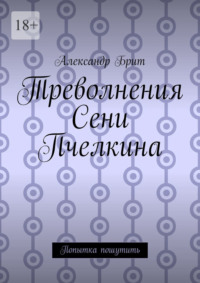
Треволнения Сени Пчелкина. Попытка пошутить

Треволнения Сени Пчелкина
Попытка пошутить
Александр Брит
© Александр Брит, 2024
ISBN 978-5-0064-7289-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Смех – кратчайшее расстояние между двумя людьми.
Виктор Борж.
Попутчик
На перроне, затерявшейся меж березовых колков, маленькой станции Дубравы, сплошь затянутой снежными барханами, было немноголюдно. Вернее сказать, пассажирский поезд, который, кстати, уже опаздывал на пять минут, ожидал только я. В это время года здесь всегда так бывает, если конечно не учитывать предпраздничные дни, да студенческие каникулы. Тогда вагоны единственного местного поезда, регулярно курсирующего маршрутом, пересекающим два главных параллельных направления, бывают переполненными. Но сегодня будничный день, а посему, мне предстояло, что уже, однажды, года три тому назад бывало, единолично занимать собой весь вагон. Меня это вполне устраивало: за три часа с лихвою доберу то, что недоспал ночью.
Мой вагон остановился там, где я и предполагал, но проводник выглянул из соседнего вагона, и жестом пригласил поспешить на посадку к нему.
– Наверно в моем вагоне совсем пусто? – предположил я, поздоровавшись, с довольно молодым, румяным проводником, взявшимся усиленно протирать слегка подернутые снежной пылью поручни, как будто ему предстояло принять целую толпу пассажиров.
– У вас там есть попутчик, какой-то угрюмый интеллигент, – доложил проводник, и добавил, – зато в этом, двое слишком разговорчивые. Если хотите, можете тут ехать.
– Спасибо, пойду к себе, подремлю немного, – отозвался я и направился к своему месту. В тамбуре с другого конца вагона дым висел коромыслом, как часто говорят некурящие люди. Двое подвыпивших мужчин, по возрасту, отец и сын, очень эмоционально обменивались мнениями о достоинствах российского футбола. Завидев меня, старший приложил палец к губам, будто бы обращаясь к молодому человеку с предложением переждать пока этот, то есть я, пройдет мимо. Младший демонстративно повторил этот жест, и, жеманно поклонившись мне, произнес наигранно вежливо, – здра-ассть. Я как мне показалось, сдержанно отозвался, – добрый день, – протискиваясь в свой вагон, как видно оставив на себе изрядную порцию запаха табачного дыма, что сразу же определил мой незнакомый пока еще, попутчик.
– Здравствуйте, – приветствовал я мужчину лет пятидесяти пяти, подходя к четвертому по счету купе плацкартного вагона, где он сидел лицом ко мне, уткнувшись в книгу. – Не будете возражать, если я к вам присоединюсь? – неожиданно для самого себя, спросил я, и слегка сдвинул рюкзак по спине влево, намекая, на то, что готов разместиться на противоположной лавке.
– Не буду, если даже вы захотите занять мое место – тут их еще штук сорок, наверное, и все свободны, – сказал, благодушно улыбаясь, мужчина, и отложил книжку в сторонку, раскрытой, кверху переплетом.
«Книгочей», отметил я, правильно с книгой обходится – страницы не заламывает. Что то, его, все-таки, немного беспокоит, – показалось мне, – как будто принюхивается, что ли.
– Берусь угадать – вы не курящий, да? – сказал я.
– Это просто… – сигарет на столике нет.
– Могут быть под подушкой, например. Так многие тактичные курильщики делают, при некурящих попутчиках, или, вовсе в карманах одежды оставляют. Нет…, я заметил, что вам не особо приятен запах, который я принес: там, в тамбуре, два веселых джентльмена дымят в две трубы, а сам я не курю. Так пустите, на постой?
– Ну…, теперь-то, я о вас «все знаю», по всем параметрам подходите в попутчики. Михаил, – представился он, и подал полностью раскрытую в ладони руку.
– Будем знакомы, – ответил я, и назвался, – Александр.
– Будем, – отозвался он, и добавил, – правда, я немного слукавил – поспешив преждевременно заявить, что все о вас знаю. А вот, например, будите ли вы со мной коньяк пить?
– Можно и коньяк, но тогда уж, давайте, для почина, слегка по нарастающей кривой приложимся, вина домашнего, смородинового, – предложил я в ответ.
– Домашнего вина не пробовал, только вишневую настойку пил…
– Михаил, вишневая настойка, она же крепкая, на водке приготовленная. А вино вишневое…, его можно произвести из ягоды, натуральное; в результате брожения запросто содержание спирта догнать до четырнадцати – пятнадцати процентов, только сахару добавляй, постепенно. Да при этом следи, чтобы в уксус не превратилось, при избытке дрожжей или дефиците сахара и неограниченном поступлении воздуха. Конечно, формально вино получают только из винограда. А, после брожения вишни, яблок, груш, смородины, и других фруктов и ягод, выходит сидр. Но эти напитки, правильно приготовленные, дадут фору многим винам, особенно заурядных сортов. Да ну, что болтать-то, лучше много раз попробовать, чем семь раз понюхать, – вовремя соскочил я с любимого конька, обременять терпеливых собеседников рассказами о прелестях виноделия на бытовом уровне. – Пробуем? – спросил я, и, не дожидаясь ответа, извлек из плотно набитого рюкзака бутылку смородинового полусладкого вина, сверток жаркого из зайчатины и пару сушеных окуньков.
– А я успею проспаться? – довольно улыбнувшись, спросил Михаил, и присовокупил к предложенному мною угощению, коньяк и пакетик с кедровыми орешками. – Мне через пять часов выходить.
– Конечно, успеете, мне три часа ехать; возможно, спать не придется, хотя собирался, – нарочито невпопад успокоил собеседника я, и разлил вино по стаканам. Кисло сладкий игривый аромат изрядно переспелой черной смородины, разбавленный легким, едва ощутимым, запахом винных дрожжей, ударил в нос.
– На запах, кажется, что напиток и правда недурен.
– Ну, так…, заяц трепать языком не любит; за знакомство, – поднял я свой походный стакан. – Кстати, это заяц – красное вино к мясу, – придвинул я ближе к Михаилу, сверток с закуской.
– У…, У…, – простонал Михаил, пригубив из казенного стакана. – Откровенно говоря, думал, что вы легонько приукрашиваете, оказалось – нет; действительно хорошее вино. Что-то напоминает, не могу понять, что?
– Изабеллу, – поделился я знанием, приобретенным только вчера во время вечерней усиленной дегустации продукции, произведенной из урожая прошлого годы моим старинным товарищем Сергеем Мостовым. – Товарищ мой сделал прошлой осенью, а зайку мы с ним третьего дня подстрелили, – не без гордости сообщил я.
– Похоже на Изабеллу, но я по части вина не большой знаток, – ответил Михаил и после этого допил вино из стакана. Он поднял со стола книгу, и, заложив между строк бумажную салфетку, аккуратно захлопнул.
– Что читаете? – полюбопытствовал я.
– Астафьева. «Прокляты и убиты», часть вторая «Плацдарм».
– И как вам? – спросил я, порадовавшись тому, что встретил читателя, носителя свежих впечатлений о достоинствах данной книги.
– Трудно сказать, еще несколько глав осталось. Астафьевская правда войны без оглядки, как всегда доминирует, но повествование несколько тенденциозное, мне так показалось, – рассуждал Михаил, – не знаю…
– Согласен. Виктор Петрович постарался, видимо, откликнуться на запросы начинающих взрослых читателей конца восьмидесятых – девяностых. Знаете, таких, литературные пристрастия коих были сформированы известными на тот момент хулителями предыдущего исторического периода. У него в окопах сплошь, какие-то обездоленные властью храбрецы, они же, большей частью, умелые ратники, ненавидящие собственных командиров. А те, в его подаче, заслуживают подобного отношения к себе, поскольку трусы и тугодумы, способные единственно, что исполнять глупые приказы самых высоких начальников. Это смущает, да?
– И это, тоже. Но еще, в произведениях того времени о войне, в литературе, а часто и в кино, прямо сквозит из всех щелей мысль о вредной организации НКВД, с ее подлыми офицерами из особого отдела. Даже Юлиан Семенов повелся в повести «Отчаяние», описывая подробности «теплой» встречи Исаева, на Родине.
– Если я правильно запомнил – читал «Плацдарм» года четыре назад, то здесь Астафьев показал главными внутренними супостатами, политруков. Да, в этом он оригинален, не заградительные отряды, не СМЕРШ, как у большинства тогдашних авторов, а, партия, – высказал я собственное мнение.
– Как же иначе, – «… до чего нас довели коммунисты – суки», так, кажется, у Иртеньева.
– Но мы, не «…проснемся с бодуна», если еще винца по стаканчику выпьем, – шутя, заверил я.
– Выпьем. Но лучше бы проснуться, и желательно вовремя, или уж вовсе не засыпать, – мы оба засмеялись, и, вновь по достоинству оценив качество напитка, Михаил вернулся к прежней теме. – Вообще-то, Астафьев да Распутин, на мой вкус, одни из сильнейших современных писателей, старшего поколения. Попробуй, постараться, вот такую правду написать, как в повести «Живи и помни». Это ведь надо Распутиным быть, или, может быть, Айтматовым, у него тоже, что-то подобное есть. А военные истории Виктора Петровича?! «Моя война», «Где-то гремит война», а уж «Как хочется жить», я вообще даже из этого ряда выделяю. По сравнению с этим, – Михаил кивнул в сторону отложенной книги, – там столько жизни, наполненной оптимизмом не смотря на весь трагизм военного времени. А юмору, сколько, такого народного, мужицкого, через край. Он ведь у Астафьева не в игре слов, а из самой жизни прорастает. Она то, жизнь наша, в себе таит и трагедию, и драму и фарс, которые каждый из нас, читателей, так и воспринимает, без посторонней помощи, ибо этого и в жизни через край. Но вот юмор…, нужно заметить в потоке событий, вычленить, умело обработать, и так подать, чтобы вызвать у любого читателя нужную реакцию; не каждому автору это по плечу, стать властителем нашего смеха. У Астафьева это получается. Согласны?
– Согласен, частично. Но после третьего тоста, обычно, на «Ты», переходят. Согласен? – спросил я.
– Не возражаю. За хорошую литературу, – провозгласил Михаил, и поднял свой стакан с коньяком, на самом донышке.
– Ты Михаил, не учитель ли литературы, уж слишком в этом деле сведущ, – предположил я, хлебнув коньяку.
– Угадал, но частично, я химию преподаю, а книги, главное увлечение с самого детства.
– Да ты что!? У меня с этой твоей химией, взаимная неприязнь. Я инженер механик, а, посему какую-никакую химию сдавать пришлось, кажется на первом курсе, во втором семестре. Помню, как весело было однокашникам, а мне, по правде сказать, не очень, особенно перед экзаменом. Но главное, я сдал, причем на четверку, и навечно с химией распрощался. А вот, без того самого народного юмора, тогда точно не обошлось.
– Рассказывай. Оценим, твой студенческий фольклор, это, должно быть, та еще занимательная история, – настаивал мой уже слегка разрумянившийся собеседник. Мне не составляло особого труда пересказать своему попутчику эту историю сорокалетней давности по двум причинам; первое, недавно ее напомнил мне один парень из бывшей моей группы, причем в подробностях, но главное – язык мой был уже достаточно развязан алкоголем.
– Ну…, слушай, – произнес я, как бы уступая настойчивой просьбе. – Семидесятые годы. Мне восемнадцать. По этой, кому-то, может быть, непонятной причине, химия занимает в моей душе самый отдаленный закуток, затерявшийся в темных лабиринтах медленно развивающегося разума, где-то рядом с иностранным языком. Во всяком случае, доцент Александрова, «светлый облик» которой, накануне предстоящего экзамена начинает вызывать у меня неодолимую оторопь, наверняка, не знает, есть ли в моей голове хоть чуть-чуть ее предмета. Думается, что она и меня-то не знает: даже доцент, кандидат химических наук, не в силах сохранить в своей памяти физиономию спящих в последнем ряду лекционной аудитории, красавцев, тем более спящих в общаге. Не в состоянии…, берусь утверждать – не сподобилась за предоставленные ей, мною, несколько полноценных попыток, не смогла. Хотя…, в самом начале семестра я, последним, среди опаздывающих на лекцию студентов, все-таки попался ей на глаза, и когда перед сессией вспомнил об этом, мне стало тревожно. А как же; если тогда она меня хорошо запомнила, то в следующий раз, и много раз позднее, не высмотрев меня в аудитории, могла прийти к ложному выводу, что имеет дело, вернее не имеет никаких дел со злостным прогульщиком. В действительности, прогулял я всего с десяток ее лекций. Так или иначе, за считанные дни до начала экзаменационной сессии, я имел все допуски, и на радостях укатил утренней электричкой к родителям на трехдневный откорм. Появление перед родственниками любимого дитяти, конечно же, вызвало в доме радостный переполох, вылившийся в легкое застолье с плотным обедом. В результате оного появившаяся в юном организме, молодецкая удаль, принудила меня физически размяться – помочь отцу справиться с кучей березовых чурбанов. Колка дров требует определенного навыка, который, у меня, безусловно, был, но приобретался он трезвым аккуратным мальчишкой, а тут, «размахнись рука, раззудись плечо», и топор направил свое до блеска отточенное лезвие туда, куда ему заблагорассудилось в тот момент. Заскорузлые, изрядно засохшие кирзовые сапоги, натянутые мною после длительной и строго произнесенной матерью, рекомендации, не смогли сохранить левую ногу в неприкосновенности: я лишился части крайней фаланги мизинца и с тех пор из него торчит коготь, вместо ногтя как у всех нормальных скучных людей. Этот, будто бы атавизм, оставшийся от давних предков, пернатых, позволил мне дважды, в студенческой общаге и еще в армии, выиграть пари на предмет наличия оного анатомического извращения. Кроме того топор повредил безымянный и средний пальцы; но из этого, я ни какой пользы ни разу не извлек.
Слегка трезвый, по случаю выходного дня заслуженный хирург республики по фамилии Добрецов взглянув на раненого, как его проинформировали, студента, произнес, – на политехника не похож, по признакам отсутствия интеллекта, и на студента ИФК тоже не тянешь – хилый очень. Наверное, медик: среди нашего брата, «дубов», кои горазды конечности кромсать, полно. Угадал? – спросил он, и всадил иглу шприца меж изувеченных пальцев. – Ветеринар, – промямлил я, от неожиданной, острой боли. – Ну…, тогда понятно; ветеринары…, эти и вовсе «дубы дубовые».
– Вы ветеринар. Скотские иголки пихаете в человека, – кажется, беззвучно простонал я. Но он услыхал, и немедля ответил, – нет, брат, игла обычная, лошадиная. Зато, сейчас три петельки завяжу, и через три недельки ты у меня заскачешь как юный жеребец. Политехник.
По поводу трех недель доктор не ошибался. Но получалось, что я мустангом скакать буду уже на каникулах. А пять экзаменов…? Выходило так, что достаточно сносно, с костылями, я начал передвигаться к концу второй недели, то есть за два дня до последнего экзамена. Никогда не угадаешь название предмета…, правильно химия. Судьба испытывала меня на прочность, эта мысль поначалу серьезно огорчала, но ненадолго. Я рассудил, весьма здраво: шансы сдать с первого раза этот ненавистный мне предмет, находясь в полном здравии и в моем, по части химии, не великом уме, приближался к бесконечно малой величине. Но суровый доцент Александрова в некотором роде женщина, и даже я, немалый циник, допускал наличие в ее непреклонном нраве такого чувства, как милосердие к убогим и сирым. А что же мне оставалось, как ни использовать этот призрачный шанс. Вдруг да повезет. Добравшись с вокзала до альма-матер, примерно, за час до назначенного времени, я принялся неспешно подниматься по знаменитой широченной лестнице, что слева от входа в главный учебный корпус. В здании, мягко говоря, народ не толпился, это и понятно – сессия заканчивалась, и моя немощь имела не очень великую, возможность быть массово засвидетельствованной. Первоначально попробовав подниматься с максимальным использованием костылей, как требовалось по замыслу предприятия, я убедился, что это гораздо сложнее, нежели шагать, прихрамывая, неся костыли в руках. Но, в таком случае я буду выглядеть, чуть ли ни залихватским суперменом, героически преодолевающим свой недуг. Прислонившись к перилам, я передвигался на второй этаж лишь в те моменты, когда лестница была пуста, и несколько раз отказавшись от предложенной помощи, сдался только тогда, когда меня настигли одногрупники. Пока я бегло рассказывал историю моего увечья, четверо спортивного сложения парней, принесли меня к месту предстоящего экзаменационного ристалища. На правах слабого звена, как бы сейчас сказали, я выпросил себе десятую очередь, и, позаимствовав у Пети Иванова, вечного отличника, конспект, принялся наскоро изучать общую химию. Конспект раскрылся на странице, повествующей об интересной истории, реакций обмена. Прочтя только определение, я удивился, как это просто, но, только в том случае, если не приводить примеры, где мой мозг, тут же дал сбой, после самого простого случая таких реакций. Ограничившись так скоро достигнутой глубиной познания указанной темы, дабы не внести хаос в оперативную память, я эту тему оставил. Перелистав несколько страниц аккуратно исписанной тетради «попал» в гидролиз солей. Поверь мне Миша на слово: название этих двух тем из институтской программы, я помню до сих пор. Но, не более того, или только и всего, если не считать формулу воды да поваренной соли, но это из школьной химии.
– Да разве, так может быть? – задорно хохотнув, удивился Михаил, – По маленькой? Мы выпили, и я продолжил рассказ:
– Важно плывущая к своей любимой аудитории доцент Александрова не могла не заметить сидящего на подоконнике вихрастого оболтуса, с богато перебинтованной ступней левой ноги, да в домашних тапках. Обратив внимание, вопреки своей обычной манере, вовсе не замечать студентов до тех пор, пока они не предстанут перед ней на занятиях, она сразу вычленила взглядом мой странный гардероб, с больничными причиндалами, но, не сбавляя шага, прошла мимо. Выражение ее лица говорило, – «где-то я его видела». Перехватив этот озадаченный взгляд, я тоже озадачился. Грусть-тоска моя длилась примерно четверть часа, до тех пор, пока не стали выходить, счастливые и не очень, соискатели положительных оценок. После пятерки, четверки, неуда и двух троек, и я вошел в «пыточную камеру», и, опасаясь переиграть, изобразил на лице борение мужества с недугом. Доцент Александрова, благостно кивавшая в такт, уверенной речи Пети Иванова, который рассказывал ей что-то о разнообразии сложных полимеров, вновь обратила на меня внимание, но, в ее слабо развитой мимике, кроме первоначальной реакции на мое ничтожество, промелькнуло нечто, похожее на сочувствие. Я проскакал к краю длиннющего стола, к тому месту где, беспорядочно развалившись, с нетерпением ожидали «любителей химии» экзаменационные билеты. Александрова одобрительно кивнула, и жестом указала, – берите, и усаживайтесь за стол с противоположного торца. Вновь, изобразив героическое преодоление боли, я добрался до указанного места, и, отставив костыли в сторонку, оперев их о край стола, заглянул в билет, походу дела отметив, – сочувствует: сюда, в два раза ближе, чем до первого ряда. Первый вопрос билета я сразу же пропустил – химические реакции в газовой фазе, звучало слишком таинственно. О втором вопросе сказать мне нечего – не помню. И вот удача: «химические реакции обмена», соломинка за которую буду цепляться. Молодец Петька Иванов; хороший конспект сочинил. А Петька в это время получил свою заслуженную пятерку, и на радостях вскочив со стула, задел бедром о край стола. Стол содрогнулся, и мои деревянные помощники, с чудовищным грохотом, брякнулись на пол. Я скукожился, и, наклонившись на стуле, попытался достать с пола разлетевшиеся в разные стороны костыли, но обратив внимание на реакцию преподавателя, оставил попытку. Выражение ее лица выглядело так, будто она хотела сказать, – да хрен с ними, пусть лежат. Я еще отметил, – ты смотри, чуть ли ни матюгнулась, а еще доцент. – А вслух она добавила, строго взглянув мне в глаза, – как будете готовы, дайте знать. Ну, а как тут готовиться? Исходя из минимума возможного, я записал на листке определение реакции обмена, которое еще не успел забыть, и немного подумав, решил сделать пояснение к этой довольно простой формулировке, пусть думает, что я в тонкостях вопроса сведущ. Получилось пять строчек, это, если буду не спеша излагать, да повторяться, якобы для демонстрации глубины моих знаний, мне же может показаться, что КХН и Доцент не уразумела моего объяснения. Так можно растянуть минут на десять, если не попросит привести пример. Один пример, реакция соды с соляной кислотой, я смогу разъяснить – только что изучал в подробностях. Но, показывая, что напрягая память, извлекая знания из самых дальних ее глубин, смогу протянуть еще минут пять, но это все. Дальше расчет только на милость преподавателя. Или, все-таки…, приглядеться к двум другим вопросам, – размышлял я от ощущения надвигающейся безнадеги. О вопросе номер два я уже сказал, что совершенно не помню, о чем там была речь. Еще раз вчитался в формулировку первого вопроса. Почти отчаялся, но вдруг осенило: в физике есть раздел о газовых законах, он нелюбим студентами, и мы его называли химией. А вдруг и химические реакции в газовой фазе подчиняются тем же физическим законам, которые я знал достаточно сносно. Может быть, у химиков тоже есть нелюбимый раздел, который они называют физика, – вот было бы здорово, если бы это было одно и то же, подумал я и принялся излагать универсальный газовый закон, и закон состояния идеального газа, со всеми «изо» процессами. Получился ответ на полутора страницах. Я устало выдохнул, демонстративно утер воображаемый пот с лица, и, была, не была, уличив момент, утвердительно кивнул, дескать, я готов. Кажется, выглядел я в это мгновение уверенным, но изрядно измученным. – Ну…, что вы приготовили? – спросила Светлана Михайловна, КХН, доцент Александрова, взглянув на исписанные листки бумаги. Я прикрыл ладонью тот самый листок и слегка вздохнув, промямлил, – вот. Прочитав первый вопрос, принялся тараторить без остановки, готовый в любой момент, в случае разоблачения, признаться в том, что я не совсем правильно понял суть вопроса. Но, заметив реакцию Светланы Михайловны, примерно такую же, как на ответ Иванова, я еще больше взбодрился. Уверенность моя стремительно переходила в наглость, и я сыпал без запинки графики процессов, формулы и смыслы постоянных величин, решив, что буду трещать до тех пор, пока меня не остановят. Другого, ведь, выхода все равно не было. – Хорошо, – сказала, наконец, доцент Александрова. – Вам плохо? – Нет, – бодро ответил я, – просто с пяти часов на ногах, – я бросил беглый взгляд на больную ногу и слегка поморщился. – На следующий вопрос отвечать будете? – Да ответил я и подумал, – ага, на тройку, кажется, наработал, главное теперь не проколоться на какой-нибудь ерунде. Мои расчеты времени для третьего вопроса не оправдались, познания закончились минут через пять, но вот надежда на вопрос о примере не подвела – наскреб еще минут семь. – В этой части ваши знания заметно слабее, чем в физике, – ударило по моим ушам заключение доцента, и я подумал, – это, наверно, завал. А она говорит, – что там у вас еще? – Гидролиз солей, – якобы читаю я из билета, решив идти до конца. Начинаю произносить определение реакции, одновременно передвигая билет дальше от преподавателя, и слышу, – достаточно, если четверка устроит. – Да, – как бы с сожалением, выдавливаю я засохшим от радости голосом. Забираю зачетку, и, прихрамывая, вприпрыжку устремляюсь к двери. Друзья, ожидающие в аудитории «приятного общения» с Александровой, вздрагивают в хохоте. Понимаю, что забыть о костылях, это очень серьезная ошибка. Возвращаюсь уже не так бодро, и, подобрав злосчастные деревяшки, иду к выходу, ступая осторожно, медленно перенося больную ногу. Осознаю, что это выглядит так, будто я вдруг вспомнил о том, что мне должно быть больно. Взгляд доцента Александровой, по очереди, в мой экзаменационный билет и на меня, иначе как свирепым назвать нельзя. Он означает примерно следующее: «погоди, проходимец, ты у меня еще физическую, да коллоидную химию, сдавать будешь». Она не знает, что мне подписали заявление о переводе на другую специальность, где химии дальше нет. На выходе группа встречает, – ну как? Выбрасываю перед собой пятерню со скромно подогнутым большим пальцем. А что сказала-то? – спрашивает кто-то. – Сказала? Сказала, что рада была познакомиться, – соврал я, будучи совершенно оглупевшим нежданной удачей, и бурной реакцией на нее ржущих однокашников.
Михаил долго смеялся, дважды безуспешно пытаясь остановиться, потом затих, и, прыснув, произнес, – «рада была познакомиться», это красиво. А как ты после-то существовал?
– Я ж тебе сказал – перевелся.
– А, ну да. История, правда, из жизни? Без прикрас?
– Абсолютная правда, только слегка обработанная…, для читаемости, что ли.
– Не понял, что значит для читаемости? Это что ли напечатано где-то?
– Да нет, ну в некоторых моментах, чтобы юмор вычленить, а где-то для правдоподобия при рассказе, приходится подработать, – сказал я и понял, что окончательно запутываюсь.

