
Собрание сочинений. Том 2. 1988–1993

Поляков Ю.
Собрание сочинений. Том 2. 1988–1993: Том 2
© Поляков Ю.М.
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *
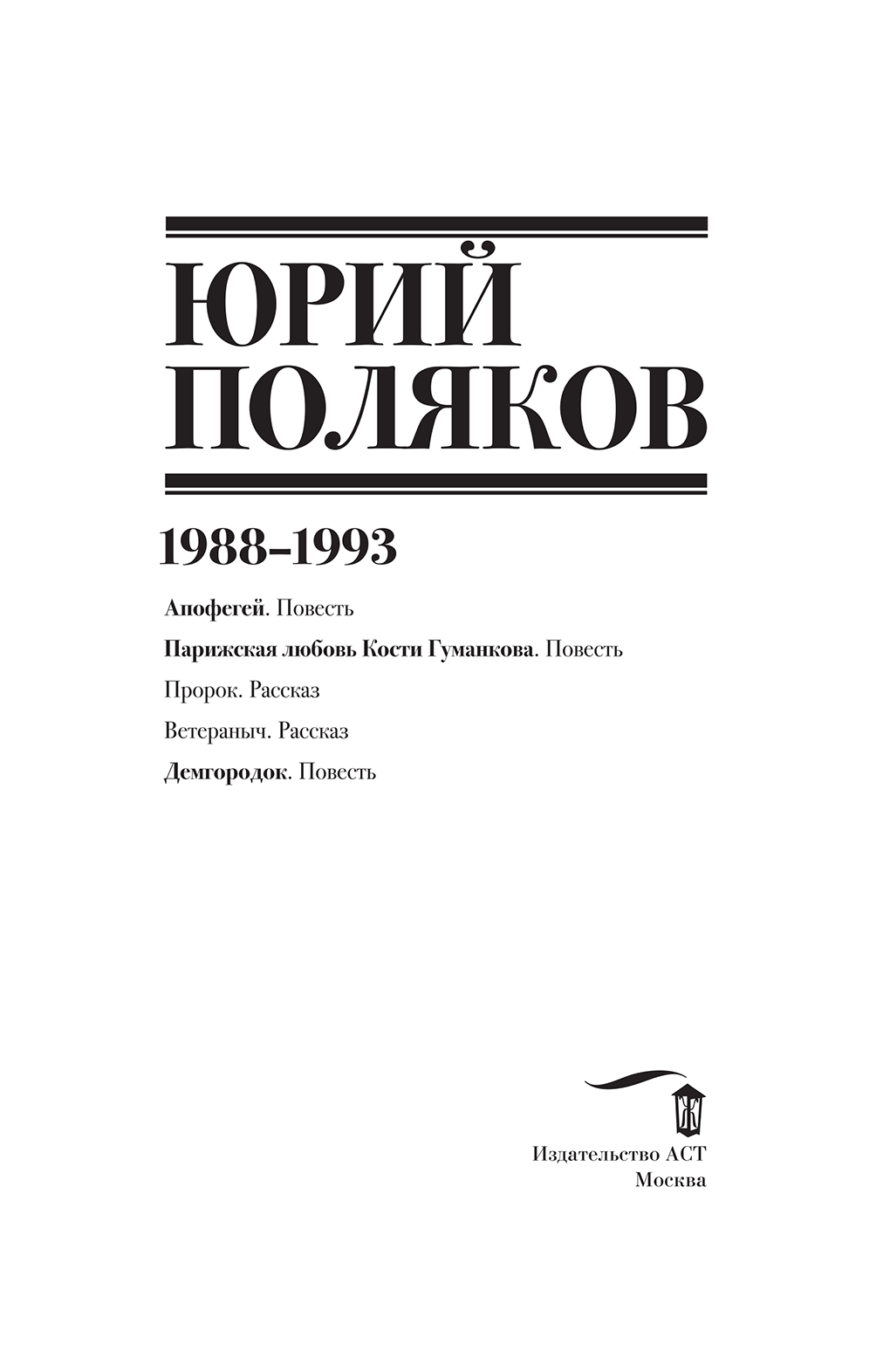
Апофегей
Источник твой да будет благословен, – и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ея да упояют тебя во всякое время, любовью ея услаждайся постоянно.
Книга притчей Соломоновых…Когда, сурово улыбнувшись, БМП закончил свое вступительное слово и, переждав аплодисменты, предложил считать научно-практическую конференцию открытой, в этот самый момент откуда-то из глубины переполненного зала вынырнула записка и поплыла в сторону президиума.
К сведению: Бусыгин Михаил Петрович, прозванный БМП за неуклонность, стал первым секретарем Краснопролетарского райкома партии полгода назад, сменив на этом посту былого лидера Владимира Сергеевича Ковалевского, как известно, катапультированного на пенсию вследствие невыполнения правительственного постановления об улучшении снабжения населения растительным маслом. Воцарение БМП, показавшееся кое-кому случайным, в действительности было глубоко закономерным, ибо некогда выпало Бусыгину учиться в Высшей партийной школе одновременно с нынешним городским руководством, которое, сколачивая собственную команду, вспомнило-таки про давнего однокашника и вытащило его из медвежьего подмосковного угла в столичный райком.
…Когда БМП со значением пригласил на трибуну основного докладчика – секретаря парткома пединститута профессора Желябьева, а равнодушный официант принес стакан теплого чая, записка, мелькая, словно чайка на волнах, достигла середины зала.
Между прочим, научно-практическая конференция (в афишах почему-то значилось «научно-теоретическая») «Возрастание духовных запросов советских людей и задачи коммунистов района в деле повышения уровня культурно-массовой работы среди населения» проводилась в канун важнейшего отчета, с которым БМП готовился выступить через два дня на бюро горкома партии. По задумке Бусыгина, конференция должна была продемонстрировать небывалое единение краснопролетарского лидера с широкими народными массами. На оперативном совещании секретарей первичек Бусыгин пообещал ответить на любые, даже непарламентские вопросы участников конференции, слух об этом прокатился по району, и обычно пустой до гулкости ДК «Знамя» заполнился настолько, что сидели даже в проходах.
…Когда телевизионщики, вдруг слетевшиеся на заурядное районное мероприятие, вырубили юпитеры, приберегая пленку для обещанных ответов на вопросы, а сам БМП вернулся в президиум и, кривовато усмехаясь, стал одним ухом слушать одобрительный шепот заведующего отделом горкома Юрия Семеновича Иванушкина, а другим – просторный, как песнь ашуга, основной доклад профессора Желябьева, записку наконец прибило к празднично оформленной сцене. Инструктор Голованов, затем и посаженный в первый ряд, принял вчетверо сложенную тетрадочную страничку, оглядел ее и с вдумчивой деловитостью, хорошо заметной из президиума, опустил бумажку в специальный полированный ящичек, стоявший между двумя сооружениями из цветов, которые, между прочим, воздвигла знаменитая икебанщица. Она всерьез уверяла, что ее композиция в художественной совокупности символизирует свежий ветер обновления и поистине революционные преобразования, случившиеся за последнее время в стране в целом и в районе в частности.
Увидав поступившую записку, Бусыгин и Иванушкин значительно переглянулись: мол, конференция еще, считай, не началась, а контакт с аудиторией уже установлен, что, несомненно, свидетельствует о возросшей политической зрелости и гражданской заинтересованности районного актива. А ведь еще совсем недавно на подобные массовые отсидки людей просто-напросто загоняли или же заманивали, суля в перерывах торговлю съестными и книжными дефицитами. В том, как они глянули друг на друга, был и еще один, особенный оттенок: дескать, что ни говори, а от первого лица мно-о-гое зависит!
Пока Бусыгин и Иванушкин переглядывались, из-за кулис, где помещался столик стенографисток, заманчивой походкой манекенщицы вышла сотрудница сектора учета райкома партии Аллочка Ашукина, которую неизменно отмобилизовывали для работы с записками на сцене, и еще безвременно ушедший на пенсию Ковалевский, проводя планерку перед очередным массовым мероприятием, задумчиво говаривал: «А записочки пусть носит эта… хорошенькая». И грустно улыбался, вспоминая, наверное, о том, что кроме сводок по плану, жилищной проблемы, выше- и нижестоящих товарищей, есть, оказывается, еще и молодые, цветущие женщины с тонкими, как у песочных часов, талиями. Ковалевский был руководителем старой закваски, скромным, непритязательным человеком, беззаветно преданным партии за ту безграничную власть над людьми, каковую она дает своим избранникам. Если б ему вдруг предложили: Владимир Сергеевич, выбирай – черная машина у подъезда, чудесная квартира в центре Москвы, еженедельная неподъемная «авоська», спецдача, спецмедобслуживание, спецзагранкомандировки, с одной стороны, или обыкновенный, цвета слоновой кости телефон с маленьким золотеньким гербом державы на диске, – он, Ковалевский, сказал бы не задумываясь: «Телефон!»
БМП, с маху поменявший в райкоме почти все, что пахло духом предшественника, поменявший так твердо и жестко, что один из вышвырнутых аппаратчиков застрелился у себя на даче, – Ашукину почему-то оставил при исполнении привычных для нее обязанностей… И вот Аллочка обольстительно подошла к полированному ящичку, изящно наклонилась, так, что из низкого выреза блузки выскользнул и закачался на цепочке кулон-сердечко, потом плавно распрямилась и понесла записку прямо в президиум, а не на сортировку в секретариат, как бывало раньше. Не подымая тщательно подведенных глаз, она положила ее перед Бусыгиным, который уже не раз заявлял, что между руководителем и массой не должно быть посредников.
Отметим: как только Ашукина начала свое движение к столу президиума, Юрий Семенович Иванушкин внезапно озаботился, оглянулся назад и стал призывно озирать кулисы. Буквально тут же к нему подскочил инструктор горкома. Иванушкин, взяв его за пуговицу, начал давать какие-то срочные поручения и давал их до тех самых пор, пока Аллочка не вернулась к столику стенографисток. Лет десять назад, когда Ашукина работала еще в секторе учета райкома комсомола, а Юрий Семенович трудился инструктором райкома партии, у них была некая история, чуть не стоившая Иванушкину карьеры. Кстати, фамилия его и внешность необычайно соответствовали друг другу: русые кудри, конопушки и добрые синие, чуть грустные глаза. В молодости, будучи аспирантом кафедры фольклористики пединститута, он получил забавное прозвище: «Убивец»… Но об этом позже.
Пока Иванушкин общался со своим инструктором, Бусыгин взял записку, повертел в руках и прочитал: «Тов. Чистякову В. П. (лично)». БМП удивленно поднял правую бровь, сложил тонкие губы в трубочку и, подавшись вперед, глянул на притулившегося с краю президиумного стола секретаря райкома партии по идеологии Валерия Павловича Чистякова, который как раз наливал себе минеральной воды, с трудом сохраняя выражение профессиональной доброжелательности на усталом лице. Во взгляде Бусыгина не было ни ехидства, ни раздражения, а только некое недоброе любопытство, отчего Чистяков, один из последних людей Ковалевского и даже, как поговаривали, его любимец и несостоявшийся преемник, похолодел, отставил стакан с минеральной водой и принялся делать неотложные пометки в еженедельнике.
Записка по рукам двинулась к Валерию Павловичу, и каждый, кто брал ее и передавал дальше, старался в меру своих способностей воспроизвести на физиономии то самое выражение, какое мелькнуло только что у первого секретаря. Получив сложенный листочек, Чистяков не стал его разворачивать, а небрежно бросил перед собой и как бы сразу забыл о нем, увлеченный докладом профессора Желябьева, метавшего политически выверенные молнии в рок-музыку, которая, словно раковая опухоль, разъедает внутренний мир советской молодежи, сбивая ее с активной жизненной позиции на кривую дорожку социальной апатии…
Рядышком с Чистяковым сидел зампред райисполкома Василий Иванович Мушковец – тоже один из обломков мощной команды Ковалевского, рассеянной порывом номенклатурной бури. В президиумах Мушковец обычно подремывал, заслонившись от мира привезенными из Италии дымчатыми очками с нарисованными на стеклах широко раскрытыми вдумчивыми глазами, или же рисовал многоцветной японской авторучкой исключительно кузнечиков, которые получались у него настолько правдоподобно, что, казалось, вот-вот какая-нибудь из тварей щелкнет с листа и защекочет за шиворотом.
Василий Иванович состоял другом дома и даже дальним родственником Чистякова по линии жены, в зампредах сидел давно, лет пятнадцать, и в районе у него, как сам он любил выражаться, все было схвачено и задушено. До прихода БМП, разумеется. Валерий Павлович и Василий Иванович много лет вместе ездили рыбачить на потаенный водоем, который чудом обошло всеобщее рыбное оскудение, посещали по субботам четвертое автохозяйство с его замечательной баней (о ее существовании шоферы и не ведали), а иногда, в редкое свободное воскресенье, они сходились семьями и расписывали «пульку». До недавнего времени и в президиумах родственники садились рядом, перешептывались, сплетничали, решали мелкие проблемки. Но вот однажды Бусыгин приподнял правую бровь и совершенно серьезно пошутил насчет «неразлучной парочки заговорщиков». С тех пор они зареклись появляться вместе, и только сегодня, задержавшись на заседании жилищной комиссии, Мушковец вынужден был сесть на единственный свободный стул рядом с Чистяковым.
Василий Иванович задумчиво дорисовал у очередного кузнечика длинные усики и, чуть наклонившись к Валерию Павловичу, тихо спросил:
– От кого?
– Не знаю, – отозвался Чистяков, лениво взял записку, развернул и прочитал:
«Уважаемый Валерий Павлович!
Прошу простить за беспокойство, но мне необходимо с Вами поговорить по вопросу исключительной важности. Прошу Вас во время перерыва подойти к стенду “Досуг в районе”. Буду ждать.
Н. А. Печерникова».Все это было написано четким и ровным учительским почерком, без помарок, и только в слове «Вами» строчная буква «в» была аккуратно исправлена на прописную.
– Печерникова… – встревожился Мушковец, ознакомившись с запиской через плечо секретаря райкома. – Печерникова… Кто это?
– Не знаю, – пожал плечами Чистяков и провел ладонью по своим рано и красиво поседевшим волосам.
– Только не надо из меня барбоса делать! – тихо возмутился Василий Иванович. – Не надо мне свистеть, что это очередная жертва перестройки к тебе, Валера, за правдой прорывается! Чего она хочет? Сейчас все опасно! Ты посмотри на БМП, это же не человек, это машина для отрывания голов…
Мушковец шептал страстно, но замерев лицом и не разжимая губ, точно чревовещатель, а Чистяков в ответ размеренно кивал головой, будто бы речь шла о чем-то идеологически важном и непосредственно связанном с сегодняшней конференцией.
– Печерникова… Печерникова… – тужился вспомнить Мушковец. – По жилью она у меня не проходит. Кто такая?
– Понятия не имею, – спокойно ответил Валерий Павлович и положил записку в карман.
* * *Двенадцать лет назад Надя Печерникова и Валера Чистяков чуть-чуть не поженились. Он в ту пору был аспирантом кафедры истории СССР, собирал материалы для диссертации об аграрной политике социалистов-революционеров, жил в общаге в одной комнате с Юркой Иванушкиным, последними словами костерил администраторов и пустолобов от науки, тормозивших утверждение темы, и если бы кто-нибудь в ту пору нагадал ему судьбу удачливого партийного кадра, то Чистяков только бы рассмеялся и посоветовал предсказателю больше не похмеляться техническими спиртовыми растворами.
Надя Печерникова поступила в аспирантуру годом позже. Она, как и Валера, сначала поработала учителем старших классов и школьную программу по истории называла не иначе как «Сказки тетушки КПСС», с чем будущий секретарь райкома партии по идеологии был полностью согласен. Надя собиралась писать о реформах Столыпина, имела о знаменитом премьер-министре и его заслугах перед Отечеством свое собственное, отличное от общепринятого, мнение, менять его не собиралась, на компромиссы идти не желала, из-за чего, собственно, и не задалась впоследствии ее научная карьера. О таких людях, как Печерникова, Василий Иванович Мушковец говорил: «По белой нитке ходит!»
До сих пор Чистяков отлично помнил первое появление Нади. Осенью 1976-го, после каникул, собрали заседание кафедры, совершенно уникальное по занудству и тягомотности, где обсуждали проект плана работы на новый учебный год, скучно спорили по каждому пункту, и Желябьев, тогда еще доцент и секретарь партийного бюро факультета, в сердцах даже надерзил заведующему кафедрой профессору Заславскому, хотя, впрочем, все отлично понимали: как только план утвердят, сначала про него на несколько месяцев просто забудут, а потом приторможенная лаборантка Люся потеряет все до единого экземпляра.
Надя вошла в комнату в тот самый момент, когда доцент Желябьев хорошо поставленным лекторским голосом доказывал, что неумение планировать исследования – бич советской науки. Все оглянулись на застывшую в дверях девушку, одетую в тугие вельветовые джинсы и свободную кофточку, волосы у нее были перехвачены обычной аптекарской резинкой, а через плечо болталась замшевая сумка с какой-то совершенно индейской бахромой. Доцент капризно сморщил ухоженное личико и по-кошачьи махнул лапкой: мол, закройте, милочка, дверь с той стороны…
Однако бравый профессор Заславский неожиданно вскочил со своего председательского места, галантно приблизился к девушке, взял ее за руку и вывел на середину комнаты, как в театре выводят на авансцену якобы засмущавшуюся приму.
«Это наша новая аспирантка Надежда Александровна Печерникова!» – представил он. «Извините… Я очень долго ждала троллейбус…» – смущенно проговорила Надя.
Кафедральные старички тут же со знанием дела оглядели и оценили гостью. О старая профессорско-преподавательская гвардия! В тридцатые – пятидесятые они не пропускали мимо ни одной смазливой аспиранточки, влюблялись с размахом и безоглядно, щедро оставляя бывшим женам квартиры на улице Горького со всем антикварным хламом, унося в новую жизнь только маленькие чемоданчики с бельем да связочки любимых книг. Это они, они воздвигли в столице первые кооперативные квартиры! Теперь таких застройщиков давно уже нет, так как профессорского жалованья с трудом хватает и на одну семью…
Потом, все еще держа новую аспирантку за руку, профессор Заславский сообщил, что писать сия отважная девица собирается о Петре Аркадьевиче Столыпине. Кафедральные старички с пониманием переглянулись: в молодости они тоже мечтали стать честными летописцами эпохи, но хотелось бы знать, что понаписал бы тот же Нестор, когда б у него за спиной дежурил сержант НКВД с наганом. А доцент Желябьев покачал головой и с нежной грустью поглядел на симпатичную дурочку, которая наивно полагает, что историки пишут чепуху исключительно по причине незнания истории…
Наконец профессор Заславский усадил Надю рядом с Чистяковым, по-мужски подмигнул Валере и предложил продолжить обсуждение плана. Надя достала из сумки новенькую общую тетрадь, с треском раскрыла ее и ровным учительским почерком вывела: «Заседание кафедры», подчеркнула написанное двумя линиями и поставила знак вопроса, а потом, подумав немного, обвела все это узорчатой рамочкой.
Тем временем профессор Заславский, распушив хвост, начал рассказывать про то, как некогда ездил во Владимир к знаменитому монархисту Шульгину. «Неужели умный человек может быть монархистом?!» – перебил заведующего кафедрой доцент Желябьев. «Почему бы нет, если умный человек может быть сталинистом!» – покосившись на Надю, парировал Заславский, в свое время чуть было не загремевший по делу космополитов и низкопоклонников.
Но Чистяков не вслушивался в завязавшийся спор, он, рискуя нажить косоглазие, старался получше разглядеть новую аспирантку: у нее были смуглое лицо, нос с горбинкой и странная манера прикусывать нижнюю губу для того, чтобы скрыть ненужную улыбку.
Надя тем временем изобразила на страничке запутанный лабиринт со множеством коридоров и одним-единственным выходом. Чистяков настолько увлекся этим рисунком, что забылся и совсем уж неприлично уставился в ее тетрадь. «Вас как зовут?» – спросила она и повернула тетрадь так, чтобы ему удобнее было разглядеть рисунок. «Валерий Павлович…» – ответил Чистяков, уже отравленный академическими церемониями. Надя почтительно посмотрела на него, прикусила губу и объяснила: «Это тест. Нужно выбраться из лабиринта…» – «Зачем?» – тупея от непонятного волнения, спросил он. «А это, Валерий Павлович, я вам потом объясню…»
Чистяков немного подумал и твердо проложил авторучкой путь к единственному выходу, только возле одной развилки он малость замялся и двинулся, ожидая подвоха, не короткой дорогой, а наоборот – самой длинной. «Мда, – нахмурилась Надя, что-то прикидывая. – Значит, так: вас, Валерий Павлович, ждет блестящая научная карьера, но в личной жизни, боюсь, не повезет». – «А если бы я пошел другим путем?» – заволновался Чистяков. «Ну тогда бы у вас была роскошная личная жизнь и большие трудности в науке! – сообщила Надя и добавила: – Но первое слово дороже второго!..»
Услыхав это трогательное детское присловье, он наконец решился и посмотрел ей прямо в глаза – большие, светло-карие и абсолютно несерьезные.
«…А вы знаете, что говорил мне Шульгин на прощание? – вдруг возвысил голос профессор Заславский и ревниво обратился к новой аспирантке: – Вы, голубушка Надежда Александровна, тоже послушайте! Он сказал мне, что во избежание будущих смутных времен нужно в СССР ввести наследование политической власти. Династию!..» «Мифологическое мышление!» – усмехнулся Желябьев. «Мышление! – вполголоса согласился доцент. – Мышление старого склеротика…» Поскольку направленность этих слов, как выражаются ученые, была амбивалентна, вся кафедра тревожно замерла, ожидая взрыва…
«Апофегей», – наклонившись к Чистякову, доверительно прошептала Надя. «Что?» – не понял Валера. «Я говорю, у вас здесь всегда так?» – «Почти всегда…» «Полный апофегей!»
Томительное беспокойство, поселившееся в душе после того памятного заседания, Чистяков, полагавший себя достаточно опытным мужчиной, квалифицировал как легкое влечение к новой хорошенькой аспирантке. Это была ошибка: он жестоко влюбился.
Потом почти полгода они встречались на лекциях, заседаниях кафедры, в институтской столовой, которую называли «тошниловкой», в Исторической библиотеке… Входя в большой читальный зал № 1, Валера почти сразу отыскивал среди десятков склонившихся над книгами голов ее перетянутый аптечной резинкой хвостик, усаживался поближе, как бы невзначай встречался с ней глазами, потом они вместе шли в буфет или курилку и разговаривали – обо всем: о полном маразме профессорско-преподавательского состава, о явных переменах в интимной жизни студентов (на последней лекции они сидели не в той комбинации, как прежде), о стрельбе по-македонски, об уморительной оговорке, которой порадовал общественность на недавнем пленуме державный бровеносец… Надя ко всему на свете, включая собственные неприятности, относилась иронически. «Надо быть большим пакостником, – говорила она, имея в виду Бога, – чтобы в конце до слез забавной жизни поставить такую несмешную штуку, как смерть… А может быть, это тоже юмор, только черный?!»
Аспирантам второго года обучения родина иногда доверяла ведение семинарских занятий. Однажды, когда Чистяков, изнемогая от чувства собственной значимости, выяснял, что же осталось от лекций в головах студентов третьего курса, доцент Желябьев зачем-то привел в аудиторию несколько аспирантов и среди них – Надю. Потом, в «исторической» курилке, она как бы между прочим сообщила, что, по ее наблюдениям, на Валерия Павловича «запала» студентка Кутепова, дочка крупного партийного босса. Надя настоятельно советовала воспользоваться ситуацией и прорваться поближе к кормушке, которую в 1917-м отняли у помещиков и капиталистов, но потом как-то забыли передать рабочим и крестьянам.
С грустью и бессилием наблюдал Чистяков, как его отношения с Надей приобретают оттенок необратимого товарищества.
В те баснословные годы во дни торжеств народных на кафедре устраивались праздничные посиделки: сдвигались столы, из шкапа извлекалась зеленая скатерть, та самая, что использовалась и во время защит. Кафедральные мужчины доставали из портфелей водочку и коньячок, женщины – пирожки, огурчики, банки с салатами собственного приготовления. Во главе стола садился профессор Заславский, он и провозглашал первый тост за советскую историческую науку и ее подвижников – надо понимать, всех присутствующих. Правда, в конце гулянья, неизменно набравшись, он впадал в черную меланхолию и бормотал, что нет у нас никакой исторической науки – одна лишь лакейская мифология. Эта фраза являлась общеизвестным сигналом – и самый молоденький аспирант мчался ловить такси, потом происходили торжественный вынос профессорского тела и бережная укладка оного в автомобиль. А посиделки продолжались до тех пор, пока не вваливался комендант здания, отставной подполковник, и заявлял, что пора, дескать, и честь знать, что даже кафедра научного коммунизма уже по домам разошлась; ему наливали стакан, он выпивал, давал еще полчаса на «помывку посуды и приборку помещения», после чего грозился опечатать кафедру со всеми ее сотрудниками.
Тогда, в апреле, все произошло по этой раз и навсегда укоренившейся традиции. Сначала коллектив кафедры, дружно вышедший на субботник, жег прошлогоднюю листву и разбирал завалы мусора, оставленные строителями, которые осенью всего-навсего подкрасили фасад флигеля, где располагался исторический факультет. Потом появилась зеленая скатерть-самопьянка, как называла ее Надя, и профессор Заславский поднял первый тост… После того как комендант пообещал опечатать помещение и еще почему-то вызвать милицию, доцент Желябьев предложил Печерниковой и Чистякову поехать к нему в гости, «на холостяцкое пепелище», и продолжить праздник!
Доцент поймал частника, по пути они заскочили в детский сад, там, оказывается, тоже был субботник, и прихватили с собой юную воспитательницу. В недавнем прошлом супругой Желябьева состояла самая молодая в республике докторша наук, ушедшая от него к члену-корреспонденту, выступавшему оппонентом на ее защите. С тех пор, по мнению Нади, доцент получил какой-то чисто фрейдистский комплекс и теперь мог общаться исключительно с женщинами элементарных профессий. Воспитательница – ее имя Чистяков давно забыл – смотрела своему ученому другу в рот и громко прыскала в ответ на каждую его шуточку или даже обычно сказанное слово.
Трехкомнатное «холостяцкое пепелище» располагалось в большом сером доме на проспекте Мира. Валера, до окончания школы теснившийся вместе с родителями и сестрой в пятнадцатиметровой комнате заводского общежития, где, дабы поутру попасть в уборную, нужно было потоптаться в очереди, потом два года живший в казарме, затем пять лет занимавший койку в четырехместном номере студенческой общаги, а теперь вот сибаритствовавший в аспирантском общежитии, имея под боком всего одного соседа, попадая на такую необъятную, по его представлениям, жилплощадь, начинал мучиться страшной завистью и самой настоящей классовой неприязнью.
Желябьев происходил из потомственной профессорской семьи; в комнатах стояла хорошая красная мебель с завитушками, на стенах висели картины в золоченых багетах и старинные фотографии в деревянных рамочках, а над бескрайней гостиной нависала огромная люстра, хрустальная, почти такая же, как и в актовом зале их родного педагогического института, где до революции располагался пансион благородных девиц.
«Это – Мурильо! – кивнул Желябьев на одну из картин, изображавшую Мадонну с озорничающим богочеловеком. – А это – мой дед, приват-доцент Московского университета». – «Какого? – съязвила Надя. – В Москве было два университета…» – «Имени Патриса Лумумбы, – меланхолично пошутил доцент и по-кошачьи махнул ручкой. Потом он открыл бар, внутри которого тут же зажглась лампочка и заиграла музыка. – Расширим сосуды и сдвинем их разом!»
Болтали о кафедральных делах, травили анекдоты, Желябьев рассказал смешную историю о том, как во время защиты его бывшей жены комендант привел в актовый зал команду тараканоотравителей в белых халатах, марлевых повязках и с опрыскивателями в руках. Кто-то что-то перепутал. Слабенькая воспитательница внимательно слушала, хихикала и безуспешно старалась подцепить с тарелки скользкий маринованный гриб, после очередной неудачи она удивленно подносила к глазам и недоверчиво рассматривала вилку.