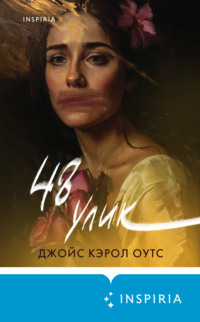
48 улик
Нет, пока никто не беспокоился. Люди спрашивали с вежливым любопытством: «Кто-нибудь видел Маргариту утром? Нет?»
Обратите внимание: имя «Маргарита» произносили почтительно. С восхищением, а не с недовольством.
Именно Мар-га-ри-та – полное, мелодичное имя, а не пошлое нагромождение слогов.
Миновал еще час. Коллеги и студенты М. с возрастающим любопытством недоумевали: а где же М., почему она не позвонила или не прислала записку? В мастерской ее точно нет, как нет нигде в здании факультета изобразительных искусств. И нет абсолютно никакой информации.
И все же (пока) никто не тревожился, не беспокоился о том, что с М., вероятно, случилось несчастье, что, быть может, она заболела, попала в аварию, в беду.
Предполагали, что в доме Фулмеров возник «семейный кризис», ведь было известно – не всем, но некоторым, – что у младшей сестры М., Дж., были какие-то отклонения…
Какие отклонения? Психические?..
Она лежала в больнице? В Буффало?
Об этом упоминали с большой осторожностью, так как все знали, что М. – женщина закрытая и не обсуждает жизнь своей семьи. Этим она отличалась от коллег-художников, которые бесстыдно сплетничали, жестоко высмеивали своих проблемных или забавных родных и близких, выставляя их на потеху окружающим, словно комиксы на доске объявлений.
Никогда ничего не рассказывала она и о своих любовниках. Даже неясно, был ли в жизни М. мужчина на момент ее исчезновения.
Разве что шелковое платье-комбинация от Диор являлось ключом к разгадке тайны: не «благоуханное», а «пахучее», отдающее характерным мужским духом…
Но этого никто не узнает. Никто из посторонних не вторгнется в комнату М. и не станет нагло, с подозрением рассматривать «улику», оставленную пропавшей без вести женщиной, ведь после ее исчезновения я благоразумно подобрала воздушное, невесомое, точно нижнее белье, платье, которое М. почему-то бросила на полу, повесила его на плечики и задвинула в самую глубь ее платяного шкафа, где оно затерялось среди других вещей. Так что пытливые детективы вряд ли его найдут.
Пусть я и не одобряла то, что М., возможно, в тайне от меня вела беспорядочную половую жизнь, мне было очень важно сохранить доброе имя семьи Фулмер, история которой восходит к периоду появления первых поселенцев в этой части штата Нью-Йорк – к 1789 году.
К востоку отсюда, недалеко от Олбани, есть даже округ Фулмер, где обосновались первые представители нашего рода, вернее, его ветвь, которая давным-давно откололась от нашей и интереса для нас не представляет.
* * *Всю вторую половину дня 11 апреля личный телефон М., который стоял в ее комнате, не умолкал. Лина в соответствии с просьбой М. трубку не брала. Звонили коллеги, друзья и подруги М. из школы изобразительных искусств.
Все спрашивали, где она, оставляли сообщения. Всего было восемь сообщений от «обеспокоенных» друзей и одно – назойливо «срочное» – от коллеги (мужчины), который работал старшим художником-педагогом в том же колледже.
Вообще-то было и второе «срочное» сообщение от этого типа – псевдохудожника с манией величия, назвавшегося Элком. Он обращался к М. оскорбительным тоном, словно был ее хозяином. (Об этом несносном Элке я расскажу чуть позже.)
(А где в эти часы была я сама? Об этом меня позднее спросят следователи. И я с радостью сообщу этим идиотам, что была на работе, где же еще! Нескончаемый поток посетителей в почтовом отделении на Милл-стрит, двое моих коллег, работавших вместе со мной за стойкой, начальник – все могли подтвердить и подтвердили, что в тот день я была там.)
(Это просто смешно! Местонахождение, алиби, зацепки. Все эти шаблоны полицейских расследований – банальные и истрепанные, словно старый протершийся ковер, по которому все же надо пройти, стиснув зубы, глядя строго перед собой, всем своим видом демонстрируя невиновность.)
Не подозревая о возникшем переполохе в связи с исчезновением М., я работала в почтовом отделении на Милл-стрит до пяти часов вечера. И не было у меня никаких дурных предчувствий или опасений – ничего!
Потом я отправилась домой. Не шла, а тащилась, хмуро уставившись взглядом в землю. На прохожих старалась не смотреть. Подобно летучим мышам, издающим сигналы эхолокации, я распространяла вокруг себя ауру неприступности: никаких радостных приветствий, никаких «как поживаете», никаких «заранее благодарю».
В отличие от М. своей машины у меня не было. Как и водительских прав, которые в штате Нью-Йорк власти по своему усмотрению одним гражданам выдают, а другим почему-то отказывают в выдаче.
Придя домой, я услышала, что в комнате М. звонит телефон. Я поднялась по лестнице на второй этаж. Звонили несколько человек, а может, один и тот же, но настойчиво, неоднократно. Меня раздражал этот трезвон: после целого дня работы на почте, где приходилось обслуживать всяких придурков, которые не способны нормально заклеить скотчем посылки, нервы мои были на пределе. Поэтому я отважилась войти в комнату М. в ее отсутствие (решила, что сестры там нет) и ответить на этот чертов звонок.
– Да? Алло? – рявкнула я в трубку без всякого намека на вежливость. – Если вам нужна та, о ком я думаю, извините, ее сейчас нет.
Почему в голосе этой дуры слышится озабоченность? Кто эта женщина, притворяющаяся, будто она очень беспокоится о моей сестре? Не сдержавшись, я прервала ее в присущей мне грубой, бесцеремонной манере, и это глупая Сэлли – или как там ее – опешила и, заикаясь, залепетала:
– Но… где же Маргарита? Вы ее сестра? Разве вы не волнуетесь? Ведь на Маргариту это совсем не похоже. Она не пришла на урок скульптуры, не представив никаких…
– А вы-то откуда знаете, что похоже, а что не похоже на мою сестру? – фыркнула я. Какая-то незнакомка истерично кудахчет, как курица, у которой отрезали голову, если, конечно, отрезанная голова может кудахтать. – Может, она уже в Тимбукту, вам-то что?
Я со смехом положила трубку.
А через несколько минут телефон снова зазвонил, и я опять ответила:
– Извините, вы ошиблись номером. По-ка-а.
Это я произнесла с китайским акцентом. И рассмеялась.
Ну и придурки! Чего, спрашивается, переполошились? Причин для беспокойства нет. Никакого ЧП не произошло.
Я бегло осмотрела комнаты М., включая спальню. Кровать была аккуратно застелена покрывалом, которое лежало одинаково ровно со всех сторон. Зашла я и в ванную, где на вешалках аккуратно висели полотенца.
Решила, что позже, если того потребуют обстоятельства, я произведу более тщательный осмотр.
Так, надо закрыть дверь. Поплотнее. Чтобы М., когда вернется, не заподозрила, что кто-то вторгался в ее драгоценное личное пространство.
К этому времени назойливые коллеги М. уже вовсю названивали папе, сообщая ему, что моя сестра не пришла на работу, пропустила назначенные встречи, «а это совсем не похоже на Маргариту». Они спрашивали, дома ли она, здорова ли. Отец послал Лину проверить, нет ли М. в ее спальне. Там ее не оказалось, что я, разумеется, уже знала. Отец сам сходил в гараж: ее «Вольво» бледно-желтого цвета стоял рядом с его солидным черным «Линкольном». Но и в этом не было ничего необычного, ведь М. редко ездила в колледж на машине.
Однако где же М. могла быть в это время дня? Раз машина на месте, значит, она ушла пешком, рассуждали все.
Вообще-то М. частенько в одиночку отправлялась в дальние прогулки/походы, даже в плохую погоду. Она бродила по гористой сельской местности, которая простиралась за Драмлин-роуд, ходила по диким пустошам вдоль берегов озера Кайюга, где не было ограждений частных владений.
Она предпочитала гулять одна. Правда, иногда, непонятно почему, вероятно, по ошибке решив, что мне скучно или тоскливо, М. брала меня с собой.
Во время таких прогулок я чувствовала себя неуклюжей и раздраженной. М. бодро шагала по тропе впереди, словно забыв обо мне, а потом вдруг резко останавливалась и ждала, пока я, запыхавшаяся и потная, ее догоню.
Просто воплощение терпения. Она никогда не закатывала глаза. Ну что вы, как можно!
А потом еще удивлялась, почему это я обычно отказываюсь от прогулок с ней. Как будто ей было невдомек.
– Джорджина?
Отец близоруко сощурился на меня поверх двухфокусных очков, увидев, что я стою на лестничной площадке и смотрю в окно на причудливые облака. Гонимые ветром, они напоминали флотилию потрепанных штормами кораблей. В этот момент голова моя была совершенно пуста, словно гладкая стена, которую окатили водой из шланга.
В это время дня отец обычно работал – в конторе, что находилась в деловом квартале Авроры, или в своем кабинете в глубине дома: беседовал по телефону с консультантами по инвестициям из Нью-Йорка, с горячностью военачальника, раздающего награды и назначающего наказания, отдавал распоряжения насчет акций. Мы с детства усвоили, что в такие моменты отца нельзя отвлекать. Как будто у нас были какие-то причины ему мешать!
Однако сейчас он выглядел растерянным, словно заблудился. Взволнованный, рассеянный, к счастью, он не заметил, как я с виноватым видом спрятала то, что держала в руке. Это была одна безделушка из комнаты М. – маленькое недорогое украшение, которого сестра никогда не хватится; она могла бы заметить пропажу, если бы это был тюбик губной помады «Миднайт роуз» (израсходованный). В сущности, мне он был ни к чему, я ни за что не стала бы накладывать макияж, это все равно что садовым совком размазать на лице шпаклевку или нанести на мои пухлые щеки клоунские румяна.
Отец спросил, видела ли я сегодня Маргариту, но я из-за гула в ушах не расслышала его вопрос. Он повторил, и с моих губ сорвался крик, удививший нас обоих:
– Нет! Я не видела Маргариту с самого утра. Почему все спрашивают меня о ней?!
* * *Вскоре стали звонить наши родственники. В Авроре вести распространяются стремительно.
Где Маргарита? Маргарита не объявлялась? Кто-нибудь сегодня видел Маргариту?
С момента исчезновения М. не прошло и восьми часов, а уже пошел слух, что с М., должно быть, что-то случилось, это на нее не похоже.
Да, такой вот бред! Но, по-видимому, только я одна это понимала.
Отец заявил, что сам будет отвечать на звонки. Не позволил Лине даже снимать трубку.
«Командный» голос отца. Жесткий голос мужчины, привыкшего к тому, что его слушают. Громкий голос человека, у которого проблемы со слухом. Родственники по телефону справлялись об М., а отец молниеносно отвечал вопросом на вопрос, подобно тому, как вошедший в раж игрок в пинг-понг мгновенно отбивает шарик.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Пальчиковые озера (Finger Lakes) – группа озер на западе штата Нью-Йорк (США). Обычно в нее включают 11 пресноводных озер, имеющих узкую удлиненную форму, вытянутую преимущественно с севера на юг.
2
Озерный эффект – влияние озера на условия климата и погоды на берегах и на некотором удалении от берегов в направлении преобладающих ветров.
3
Виллем де Кунинг (1904–1997) – американский художник и скульптор второй половины ХХ века, один из лидеров абстрактного экспрессионизма.
4
Роберт Эрнест Милтон Раушенберг (1925–2008) – американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, а затем концептуального искусства и поп-арта, стоял у истоков создания модульного искусства, является основателем направления комбинированной живописи. В своих работах тяготел к технике коллажа и редимейда, использовал мусор и прочие отходы.
5
Стипендия Гуггенхайма (грант Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма) – субсидия тем, «кто продемонстрировал исключительный творческий потенциал или исключительные творческие способности в искусстве». Учреждена в 1925 г. Присуждается ежегодно профессионалам, заявившим о себе выставками, постановками, публикациями.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов