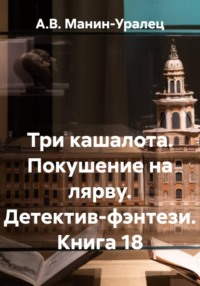
Три кашалота. Покушение на лярву. Детектив-фэнтези. Книга 18
– Спасибо, Леонид Харламович, поддержал! – тихо произнес Упряльцев, открыл книгу, увидел уже переведенный текст на обычном формате «А4», на прекрасной белой бумаге, с удобной гарнитурой и кеглем, увидел, как улетел в виртуальное пространство тяжелый кожаный переплет со всем, чего в нем было скрыто, и приступил к работе. Это была часть жизнеописания сподвижника Петра I Ивана Протасова, первооткрывателя богатейших золотых копей. Автор данной летописи подробно рассказывал о нем с поры приезда его в Санкт-Петербург и начала деятельности в царских литейных лабораториях под началом графа Иннокентия Гавриловича Томова.
«…Спустя недели, а может, месяцы, кто знает, и в какой именно, доподлинно также неведомо, но подал помощник протоинквизитора Санкт-Петербурга Василь Павлович Широков императору письменный доклад, что, дескать, «…многие опасные раскольники бегут и селятся в заяицких и сибирских городах. И ежели этим каторжным раскольникам позволено будет быть в тех городах и будет им воля, то они, собравшись с беглыми, могут произвести немалые смуты к возмущению других местных народов. В пересылочной Сибирской крепости уже началось братание…»
Петр, не приняв самого Широкова, а приняв от него только доклад, положенный на стол, был занят с графом Томовым, слушая его отчет о производстве новой стали для корабельных пушек. Иннокентий Гаврилович, читая свою бумагу, ожидал минуты, чтобы передать императору письмо от лучшего свидетеля той обстановки, которая сложилась за Яиком…
«(Это в Зауралье!)» – пометил в скобках переводчик текста «Кит-Акробат» для чтеца, и Упряльцев, не оценив шутку пытавшегося представить его невеждой, криво усмехнулся. Цифровой мозг все более укреплял свой искусственный разум, но его попытки влиять на настроение операторов нравились не всем.
…Автор письма для императора был барон Гаврила Михайлович Осетров, – продолжил чтение Упряльцев. – Он побывал в Сибирской крепости, выехал из нее в башкирские земли и оттуда отправился в Астрахань. Куда вели новые пути посланника, было неведомо. Император не спешил отзывать его обратно, содержа подальше от столицы, как в ссылке. На Осетрова доносили, как нарушителя строгих инструкций, злоупотребляющего служебной миссией в корыстных целях, чему государь не особо верил. Барон Осетров был из близких друзей молодого царя, поверенным в его амурных связях. А теперь обвинялся в распространении преступных слухов, и теми же анонимщиками были приведены факты, которые никто иной, кроме императора, барона Осетрова и графа Томова не мог знать. Как поступить с Осетровым, Петр раздумывал и домой возвращать не спешил. Он готовился к коронации своей супруги Екатерины и никакой огласки, связанной со знанием этой тайны и с именем Осетрова, не желал. Кто-то своими донесениями, возможно, напротив, покушался на покой его, Петра, а может, и на его жизнь…
Государь слушал Томова в пол-уха. Затем, повелев прочитать донесение Широкова вслух, он лично подал графу со своего стола лист бумаги, перо и сказал:
– Пиши новый указ Сенату! Впредь раскольников отнюдь в Сибирь не посылать, ибо там и без новых собралось уже много. – Затем немного подумал и добавил: – А велеть посылать их на каторгу строить новый балтийский порт в заливе Пакри «Регервик» и там же каторжную тюрьму, а из них непокорных в ней содержать!
– Позвольте сказать, ваше величество? – тут же попросил Томов, лишь только Петр подписал указ и положил его себе на стол.
– Говори, Иннокентий Гаврилович, что у тебя?
– Осмелюсь поделиться опасениями, что слишком рьяные слуги могут растолковать такой указ к высылке уже прибывших на места. Например, как наказание и под предлогом, что все равно некому будет перепроверить. А уж о том, что обозы с раскольниками могут завернуть и с полпути, и речи нет! У нас ведь то не достараются, государь, то слишком перестараются. Россия!
– Не тебе одному принадлежит, чай? За нее всю я один скажу свое слово! Говори, что дальше. Вижу, письмо у тебя чуть ли не из-за пазухи торчит. Прошение чье? Уж не Осетровых ли?.. Сказывала мне Катенька, как ты ей старался внушить, что Осетров заслуживает всяческого смягчения любого наказания и милости быть отправленным до семьи. О том, что дочь его замуж собралась, ждет отца, не дождется… А за кого замуж-то, хоть ведаешь сам?
– Не ведаю, но есть подозрения.
– Мокей Вишховатый, поставщик вин моему двору, одного из племянников пристроить к ней хочет.
– А!
– Ладно, что он там пишет? Читай!
Сказав это, Петр сел прямо, напротив, в большое широкое кресло с низкой спинкой и упер руки в подлокотники. По мере того, как Томов читал посланное ему лично письмо барона, где в конце приписал просьбу обратиться к императору за милостью, Петр, глядевший исподлобья, становился все более хищным, внимательным, и ноздри его слегка раздулись.
– «Многих, кого в этом великом переселении потеряло око протоинквизиторского приказа и его служб, искать велят со злобой, «аки волков, и искоренять их». В народе страх умножается. Многие от того страху большою силой бегут с мест поселений, куда глаза глядят. Многие на восток в земли нерусских народов, многие, – как в том сам убеждаюсь, – к башкирам и еще более к их скрытным племенам – барджидам. Последние бортники знатные, владельцы волшебного дупла на некоем чистом, как зеркало, Берсевень-озере. Нашему государю бы да отсюда воды в нефритовых бочках. О том подумаю и непременно вышлю, для опытов выделки чистейших чудесных зерцал… Заранее о том государю отписать не могу, потому еще нефритовых бочек надобно выписать сюда из Екатеринбурга, где идет погрузка воды с Голубой реки у горы одноногих истуканов. А на то необходимо свое время. И счастлив был бы лично сообщить государю, что здесь же, над озером, летают очень крупные, с птиц величиной, полосатые пчелы, которые при пересечении берега вновь становятся обыкновенными. Барджиды ставят большие дупла на эту чудесную воду и получают меда от каждой пчелы, как в России от одного улья. Как поступать с такими пчеловодами, какой брать налог, всегда затруднительно. А барджиды в своих селениях у дорог медом из тех дупел встречают всех отступивших от церкви и от царя христиан чуть не как своих братьев… И я послал в Сенат отчет с просьбой в Сибирь больше из раскола не высылать, а лучше куда в другое место… Братаются. И еще есть чудное место здесь, как у нас под Владимиром. Иные деревья падают, а как сгниют, под ними золотая пыль, словно корнями золото из серебряной руды вытягивалось, а теперь с трухой на глаза выходит. И там растут цветы, что светятся по ночам, как светляки. И пчелы от тех цветов добывают серебряный и золотой мед. И видел я, как местный кудесник выпаривал из меда золото на одно золотое кольцо, и то кольцо мне преподнес… Только просил не брать с него налогов, чем изрядно меня развеселил… Ни в чем не могу позволить себе отступить от строгих инструкций и запятнать честь мундира и приуменьшить почтение к государю. И на том заканчиваю. Только молю о просьбе доложить Его императорскому величеству, что служу ему, как и всегда служил. И что молю также Господа нашего скорее воссоединиться с любимой семьей…» И еще приписка, государь… «Можете отрезать последнее и передать Анне Дорофеевне, и то пусть дочери прочитает, как я их крепко и нежно люблю… Прощайте, Ваш барон Осетров».
– Это все?
– Да, ваше величество, – сказал Томов, утаив последние строки.
– Дай-ка сюда. – Петр, ухмыльнувшись, протянул длинную загребущую руку.
V
Томов, поклонившись, отдал письмо. Император вслух дочитал, как было: «Обнимаю Вас, граф, как искреннего друга, единственного, кому могу написать, кроме отчетов в Сенат, без боязни, что любое слово скрытый недруг ухитрится обратить против правды. И знаю, что остаток жизни не забуду, кому обязан заботой о моей семье и обо мне самом, так незаслуженно забытом любимым государем. Прощайте, Ваш барон Осетров»…
– Ничего я не забыл! А если что забыл, так я – император!..
– Ваша правда, ваше императорское величество! Я такого же мнения.
– То-то же. Слишком умные все стали… – Петр, что-то бормоча себе под нос, наконец встал против Томова, тоже вскочившего со стула, и сказал: – Ладно, передам в Сенат, пусть срочно зовут Осетрова обратно. И ты можешь ему отписать. Какая оказия быстрее сыщет его, та пусть и пропуском ему будет. А то ведь, не дай бог, наша бумага от нерадения какого глупого канцеляриста в щель на полу провалится, и останется наша девица незамужней. А того греха мне не надобно. И без того грешен!
– Вы, как всегда, справедливы и милостивы, государь.
– Умник!.. Хватит зубы заговаривать. Чай, и другие ждут. Что там еще по металлу, сказывай от сердца устно, да мне, пожалуй, отдохнуть надо. Силы уже не те, что прежде… А потому твои и Осетрова неудачи терплю, что ты, как и он, свидетель моей силы и начала славы… И тех забав, что оставляют след на сердце на всю жизнь. Э-эх! – Петр вздохнул и, повернувшись, медленно подошел к столу. – Ты вот что, давай сюда чертежи и расчеты. Что-то на слух уже меньше воспринимается. И, пожалуй, устно тоже не надо. Все больше хочется заглянуть в чудесные зерцала Духа Яви, в Диво Миража, чудесный Виток Завета… Да только никак не дождусь от своих посланников того, за чем посылаю в заграничные земли… Перевелись мореходы. Невольно, не хочешь, а вспомнишь подвиги Савватея, Прова Протасовых, Кореня Молоканова, ставшего мне теперь огромной занозой, и его чернобородого братца овенила, Феокреста… Одна теперь надежда на последнего. Да хоть был бы жив: с корсарами да шведскими пиратами шутки, поди, плохи?.. Очень жду я от него заветной шкатулки. Если Осетров доставит, многое прощу!
– Доставит! Ваш преданный барон Осетров, если дал слово привезти, привезет, ваше величество.
– Да-а! И мне так не хватает золотой цепи Монтесумы, которую вез царю Грозному и утопил над оконечностью хребта древней Гипербореи Карп Протасов! Не потребовалось бы сегодня строить столько лабиринтов!.. А Нефритовый истукан – Бог ветра!.. Он один мог бы искоренить всю сырость Петербурга!..
Томов как мог более тяжко вздохнул, чтобы соответствовать настроению властелина. Петр готовил для себя тайный зеркальный зал с Истуканом – Хранителем праха господнего, чтобы в случае смерти мог беспрепятственно перелететь на Марс в виде лучистой энергии и возродиться в прежнем виде в Эдемском саду.
Все чаще Петр стал задумываться о смысле своего пребывания на земле не как властителя огромной части планеты, а как человека, которому предстояло уйти из жизни, как и любому смертному. Он знал, что на земле люди получают временное пристанище, а их души наполняются опытом, чтобы затем, проходя чистилище, оставить этот опыт в невидимом коробе. Может, в некую машину, отправляющую ангелам сведения обо всем творившемся человечеством на земле. Он верил и в то, что души людей проходят здесь этап своего совершенствования, и многим для этого дана участь страдальца, раба, может, потому что такая участь – это его неизбежный этап наказания за грехи его предков. Или же собственные грехи в этой или какой-нибудь иной жизни. В этом случае легко оправдывалось и горе, и зло. И то, что нельзя было навести идеального порядка, что, напротив, все более портились нравы, а люди, становясь богаче, еще более развращались, и в управлении государством творилось беззаконие.
Оправдание своей жизни, ее смысл он видел в том, что преобразовал Россию и сделал для нее то, что не будет ведомо еще пяти-семи поколениям: создал целую сеть оборонительных рубежей – подземных лабиринтов и укрепленных высот, добыл и подправил карту огромной, на сотни верст «курской дуги», карту Царицына и Воронежа… Но только далекие потомки оценят этот его вклад. Мысль об этом печалила его. И чем больше было этой печали, тем настойчивее он желал не умереть простой смертью, а, минуя ступени, обрести скорое перерождение. Следовало лишь сделать так, чтобы душа его попала сразу туда, откуда была взята, ведь когда-то она не имела телесной оболочки. Петр мысленно повторял строки Книги Бытия: «И выслал его, Адама, Господь Бог из сада Едемского… И сделал Господь ему и жене его одежды кожаные и одел их… В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». И он постоянно творил молитву, прося у Господа не только вечной жизни его душе, но и телу, которое, несмотря на его несовершенство, он очень любил.
Петр не мог объяснить, почему, но ему очень нравилась его плоть, его внешность, хотя пропорции ее были несовершенны. В нем всегда жило ощущение, что он знал об этом с рождения, будто кто-то, сидящий на плече, шептал ему об этом, показывая зеркало и призывая постоянно собою любоваться. И этот «кто-то» внушил ему, что он, Петруша, от рождения пригож и строен. Правда, этот невидимый вечный друг стал нашептывать ему и то, что он, Петр, никогда не мог принять в силу своих монарших обязанностей – стать совершенным. А этот невидимый, словно перерождаясь, теперь все настойчивее шептал: «Если достигнешь совершенства, то станут светом «одежды кожаные», которые все еще темны и непроницаемы». «Не желаю! Не до того, неужто глаз не имеешь? – отвечал Петр. – Да и грехов много, вот и мечтаю перейти в вечную жизнь, минуя ступени чистилища, чай, заслужил!..» – «Глаз я не имею, но вижу все! И больше зрячих! Вижу и то, как ярче были бы твои «одежды кожаные», если бы смирился, стал бы не просто светом, а «человеком лучистым» – более ярким, чем до грехопадения!» – «Ты становишься назойливым, будто ты подменный!.. Так, может, ты виноват, что называют меня «царем-подменным» и «антихристом»?» И лярва под тяжестью этого обвинения умолкала.
И все же, может, она рассчитывала, что Петр одумается, ибо попытка все сделать только по-своему на том свете могла быть воспринята как самоубийство, а это великий грех. Там, наверху, где с Петром окажется и она, его лярва, усмирявшая свой дух под влиянием его неутомимого гения, будто однажды они поменялись местами, могли по всей строгости спросить и с нее!
И ей останется оправдываться, что сжилась с Петром и смиренно просит лишь об одном: разделить его участь…
VI
К мастеровому зеркального цеха, поставленному денщиком к химику Ивану Протасову, Луке Саломатину забежал нежданный посыльный от Наталки, дочери барона и баронессы Осетровых.
– Зовет вас к себе барышня ваша! Радость там, что ли, у них какая? – говорил рабочий. – Иду себе на побывку, в новой городской баньке помыться, как меня за рукав служанка вашей Наталки, эта, Сара…
– Ну? Знаю, что Сара, знаю! Что дальше-то?
– Хвать! Радостно так. Знаю, говорит, что ты, – это она про меня, – из мастерских идешь. «Думаю про себя: ежели знаешь еще, что я и в баньку намылился, так мне бы с тобой подружиться?..»
– Это твое дело, ты про мое заканчивай!
– Ну, думаю я так. А она мне: «Воротись и зови Луку, барышня приказывают!»
– Спасибо, Федот! – Лука хлопнул рабочего по плечу. – Ну, теперь ступай в свою баньку. Хоть один, хоть с Сарой.
– Благодарствуйте, может, еще воспользуюсь вашим пожеланием.
«Ох, схлопочешь когда-нибудь у меня!» Оповестив Ивана и упросив, чтобы тот замолвил за него слово у мастера, как на грех спустившегося в зеркальный зал лабиринта Замаранихи, строившийся под землей почти под цехами, Лука поспешил к дому Осетровых. «Наверное, наконец, весть от барона получили! А может, уже и сам приехал!.. Что?! Не-ет, – Лука даже вкопано остановился, как представил, что его вводят в дом, а он перед бароном не в парадном, а в рабочем!.. – Что же делать?.. Идти и не думать! Она сама уже обо всем подумала. Приехал бы отец, так позвала бы иначе!..»
Наталка не находила себе места от радости. Ее мать, Анна Дорофеевна, уже неоднократно перечитала письмо и тоже была сама не своя. Хотя граф писал, что скоро будет дома, что-то ей подсказывало: перспективы у мужа не столь радужны. И то, что Томов, послав посыльного с письмом, ничего не передал устно, это подтверждало.
Первое, что сказала Анна Дорофеевна, увидев Луку в рабочем одеянии, скромно переминающегося с ноги на ногу в дверях, было сухое:
– Подойдите, молодой человек, и возьмите конверт для вашего хозяина. – Она показала на стол.
– Это для Ивана Провича, – подсказала Наталка, подпрыгивая на месте от нетерпения расцеловать каждого, кто мог разделить ее радость. – Ну же, иди, бери письмо! – Баронесса подняла письмо и протянула руку, но Лука, опасаясь, что лишь усугубит отвращение, которое баронесса питала к его одежде, пропахшей литейной, так и не осмелился подойти к ней. В конце концов, Наталка сама взяла конверт из рук матери, подошла к Луке и буквально припечатала конверт к его груди. – На, бери, спрячь поскорее и проходи! – Удивленный, он принял это странное послание к Ивану из дома Осетровых.
– Я здесь постою.
– Ну, хватит! Подойди давай и послушай. – Хозяйка смилостивилась и показала ему на стул с ажурной чистой накидкой. – Садись, не бойся испачкать. Сара постирает… Послушай о нашей радости. – Она взяла платок, промокнула в краешке глаза и подала письмо дочери. – Ну-ка, прочти еще вслух, Наташенька. – Ей тоже, видно, хотелось разделить свое счастье со всем миром.
Пока Лука устраивался на стуле и засовывал письмо, адресованное Ивану, за пазуху, девушка развернула листок и начала чтение.
«…Милые моей душе, несравненная жена моя Анна Дорофеевна и дочери мои, Наташенька и Хиритушка. Только что мне было позволено отписать письмо, да и то по прибытии графа Томова и его милостивого заступничества за мужа и отца вашего, который ни в чем никогда не был виновен, но который доказывать это был вынужден, принужденный к долгой экспедиции, коей не желал, но где нами было сделано важное мероприятие ради приведения многих инородных племен в христианское вероисповедание.
Я еще осенью должен был выехать к вам, родные мои, да прибыло из Москвы и других городов, милого нашим сердцам родного Мурома и других мест много высланного народа, раскольников. И их братание с инородцами бунтарями остановило мое возвращение. По причине, что на востоке инородцы же и без наших смутьянов три года продолжают непрерывно волноваться. И муж ваш и отец много способствовал миру и принуждению бунтарей к порядку. А также и возвращению беглых, получив новые срочные инструкции от Сената, протоинквизиции Синода и по указу государя нашего, Его императорского величества. Ежели в начале волнений Сенат отправил для успокоения башкир и вывода от них пленных своих военных, то не более как через полтора-два года, привезя чертеж той земли, объявили, что выслали беглых до пяти тысяч семей, может, и больше. А может, и меньше, кто поможет точно проверить? Но около того. А всего же до двадцати тысяч живых человеческих душ. Да и тех, кто поголовно считал? А беглые к ним бегут все одно, прибавляют смуты у них. Вот и не пришлось прибыть домой до осени… Однако сообщаю, что я живой и здоровый, и в бою ранен не был. И обвинения с меня сняты, хотя ни единым своим действием и помыслом не нарушил я никаких инструкций государя и его семьи. И потому мы все скоро увидимся и обнимемся, дорогие мои, любезные моему сердцу и душе, жена и мои любимые милые дочери…»
VII
– Достаточно, – прервала вдруг Анна Дорофеевна, на том самом месте, где Наталка, набрав в грудь воздуха побольше, уже расплылась в улыбке и хотела перечесть своему любимому, как ее отец жаждет вернуться скорее и что рисует в своем воображении, как многократно обнимет, приголубит дочерей. И еще что везет им подарки и желает им счастья, спрашивая, не нашла ли жениха его старшая дочь? «Нашла, нашла!» – восклицала про себя Наталка.
– Мама! Лука! Папенька допускает, допускает, что мы сами сыщем себе жениха! Он такой умный и тонкий! И я знала, что насильно под венец не поведет!..
– А я, по-твоему, поведу?.. Ишь, «сами»! Я его, такого замарашку-литейщика, не искала и в дом не звала.
– Простите, Анна Дорофеевна! Спасибо вам. Я, пожалуй, пойду? И – прощайте!..
– Погляди на него, экий гордый!.. Посмотрю вот на твое поведение! – не отвечая Луке, как можно строже сказала Анна Дорофеевна дочери. – А прервала я тебя, голубушка, – добавила она, – чтобы передать через твоего молодого человека, – она послала Луке весьма скупую улыбку, – не только письмо, но и устную просьбу к Ивану Протасову. И в том она состоит, – говорила баронесса, без тени ласки глядя на Луку, – чтобы он, войдя в наше положение, сообщал нам всякие сведения, даже косвенно касающиеся Осетрова, идущие от господина Иннокентия Гавриловича Томова. Все, что и краешком касается дел моего мужа и твоего отца, Наташа, нам сейчас очень важно!.. Чтобы подготовиться, когда объявятся наши враги!
– К чему же, мама, такие опасения? Ведь все уже так хорошо!
– Ой, дочь, не знаю! – Анна Дорофеевна вдруг глубоко и нервно вздохнула, затем прикусила губу и с таким сомнением покачала головой, сложив руки на коленях и сжав два кулачка со спрятанными в них большими пальцами, что Лука, уже и без того заподозривший расстройство в делах Осетрова, тоже почувствовал тревогу. Сердце его сжалось, как только он представил, что осложнения разрушат их счастье…
Упряльцева увлекла история опалы приближенного императора, барона Осетрова, который, помимо скупки золота, сбора сведений о залежах драгоценных металлов, вероятно, доставлял из восточных земель жизненно важные для здоровья Петра снадобья и чудесные амулеты, а также и диковинные вещи для Кунсткамеры. Во всяком случае в «Дублере» гигантская пчела в заспиртованном виде имелась. Хотя, как родилась эта история приключений и как развивалась вплоть до злых наветов и опалы у государя, оставалось тайной. Разумеется, это был лишь один небольшой из множества эпизодов в судьбе дворянства, приближенной к императорскому двору служилой знати в период, когда в воздухе уже завис мираж новой эпохи. В тщательно замаскированных политических партиях зрела борьба за влияние при грядущей новой власти. Слишком большой скачок был сделан Россией в эпоху Петра Великого, чтобы можно было усомниться в том, что вскоре ей потребуется период отдыха. Нужны были годы, чтобы вырастить новое поколение людей. И это было уже одним из главных условий развития династии Романовых вплоть до эпохи Екатерины Великой, – читал Упряльцев, услужливо поданное, как на блюдечке, от «Сапфира», едва он сделал краткий запрос на эту информацию.
И вдруг в тексте уже будто другая рука изложила то, что также заинтересовало Упряльцева.
…Год тому назад отправили к башкирам новых военных и судей, чиновников от Сената и комиссию от Синода и протоинквизитора. И был среди них отец Наталки, Гаврила Михайлович Осетров, которого старшая дочь его и жених ее, Лука Саломатин, ждали с нетерпением и надеждой на его отцовское благословение. Да только весть вдруг пришла очень тревожная. Она заставила и Наталку, и мать ее, Анну Дорофеевну, вдвоем пролить слезы и затем лить по отдельности в свои подушки. Осетров сообщил, что лишился права писать домой письма, а только слать весточки, что жив и здоров. Через Синод присылали доклады будто бы от озлобленных беззаконными действиями Осетрова башкирских тарханов. Что руки Осетрова, дескать, при попытках усмирения бунта народа барджидов оказались в крови. А на деле этого не было. Дело усугубилось тем, что бунт не усмирялся, а, видно, только подогревался. И дошло до доклада, что, дескать, Осетров, получив разрешение вернуться к семье, чтобы бунт укротить, отдал приказ жечь деревни и сослать упрямцев на раздачу мужчин кого в батраки, а кого в драгуны, а детей их отдать в руки желающих на содержание. И тем, дескать, принес большое горе матерям и вред великий государству российскому бесчинством и расточительством.
А виной его бед стал, надобно думать, посланный в Астрахань в полки с ревизией от Синода племянник помощника протоинквизитора Санкт-Петербурга Василя Широкова поручик Юрий Бецкий. Против Осетрова было использовано и его личное донесение следующего содержания: «В Астрахани трудности к усмирению беспорядков превеликие. И татар бьют, и беглых бьют, а и те и другие не усмиряются. И совсем худо: под влиянием раскола не принимают христианскую церковь те, кто ее при нашем большом убеждении ранее приняли. Не хотят они более креста на себя принимать. И число новокрещенцев не то что прибавляется, а сводится к их постепенному уменьшению. Тому пример прибывшие из Костромы, ставшие еще более непримиримыми, сторонники Кореня Молоканова, и с ними, соединившись добровольно, пересыльные из-под Мурома, дабы чинить смуту обоими городами, имеющими на хоругвях своих изображение головы человеческой, отдельно правой руки и сапога. Объявились злодеи, объявляющие себе границы, где, дескать, не должна ступать нога никакого церковника, а только тех, кто чтит Священное Писание безо всякой симфонии, но лишь как в древнем «крестоянском» и Новом христианском заветах указано. Ибо, как заявляют они на допросах, каждый знак Священного Писания есть и образ, и общий для истинных христиан тайный знак. И он-де дает чудесные силы, как на птичьих крыльях взмывать, подлетать к престолу господнему и целовать ему ноги…