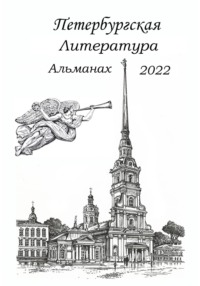
Петербургская литература. Альманах 2022
От внезапного мощного удара и грохота стены конторы содрогнулись, зазвенело вылетевшее из окна стекло. Наталья бросилась под стол, обхватила голову руками. Рядом бухнулась розовощёкая Дуня Кислова, уборщица. Папки с документами вывались из шкафа, листки разлетелись по сторонам, густо устилая пол.
– Что это? – испуганно прошептала Наталья, не узнавая своего голоса.
Дуня, не отрывая головы от пола, выдавила:
– Бомбят. Слышишь, самолёты гудят?
– Ой, мамочки! – тонко вскрикнула Наталья. – Мои-то как, Ларисочка со свекровкой?
В проёме распахнутой двери, еле державшейся на одной петле, вторая
вывернулась с куском древесины, появился землеустроитель Васильев:
– Живы? – его полные щёки побагровели, правая дёргалась в нервом тике. – Столовая горит!
Кислова вцепилась в Натальину руку:
– Только не ходи! Не смотри! Тебе нельзя – на пожар. Примета плохая.
– Да, да, – растерянно поддержал Васильев. – Нельзя на пожар. Моя жена двоих выносила. Всё на цветочки любовалась.
Внезапно он замолчал, глядя на усеянный бумагами пол.
– О чём это я? – И тут же опомнился: – Не будем паниковать! Порядок навести с документами, архив вывезти – вот наша задача!
Вечером Севостьянов, стараясь не сорваться, устало-тихим, но твёрдым голосом урезонивал мать и жену:
– Это случайно прорвавшиеся самолёты! Совинформбюро сообщило, что за три дня войны наша авиация сбила в боях сто шестьдесят один немецкий самолёт и ещё на аэродромах противника уничтожено более двухсот. Приказано оставаться на рабочих местах, только везде усилить охрану, чтобы не проникли диверсанты. Для этого сегодня истребительный батальон организовали, человек сто в него записалось. Оружие выдали. Так что, бабоньки, не волнуйтесь! – он подхватил на руки Лору, чмокнул в щёчку. – Всё будет хорошо!
Наступивший тёплый вечер не принёс ожидаемой прохлады и свежести после душного, жаркого дня. Запах гари неподвижно повис над посёлком, пропитывая напряжённой тревогой каждый дом, дерево, травинку. Трофим долго ворочался, стараясь хоть немного вздремнуть, но из головы не шли сведения сводки, о которых он умолчал. Немецкие бомбардировщики над Киевом, Ригой, Минском! Советская авиация потеряла около четырёхсот самолётов. Немцы уничтожают наши аэродромы…
Бомбёжки усиливались. Магистраль железной и шоссейной дорог Киев – Ленинград притягивала к себе вражеские бомбардировщики, словно мираж немецкой победы, ведь уничтожение путей сообщения обещало быстрое, беспрепятственное продвижение в глубь советской страны. До стратегических целей: Городок, Бычиха, Езерище, Невель – лёту всего-то ничего.
Каждый раз, заслышав звуки приближающихся немецких самолётов, Наталья в ужасе хватала Ларису, выскакивала из дома с криком: «Мама, быстрее!», – бежала к траншее, которую выкопал Трофим. Свекровь ковыляла сзади, охая:
– А што ж гэта робiцца? Божа, мiласцiвый, а што ж гэта з намi будзе? Няўжо яма выратуе, а хата не?
– Не! – в который раз доказывала невестка. – Сколько уже хат попалили? Райком партии сгорел! Военкомат! Люди гибнут! Эшелон разбомбили. А там детки! Вагон целый, если не больше. И раненые наши солдатики, офицеры. Ай, Васильев рассказывал – такая беда! Тех, кто не сразу-то насмерть, спасли. Мужики из истребительного батальона спасали. Машинами, на телегах дальше отправили. А кто, может, по деревням попрятался, неведомо. Все в разные стороны. А с самолётов по ним палят, палят! У вокзала захоронили погибших. И девушку-санинструктора. Моло-денькая!
– А калі ж гэтых нямецкіх ірадаў у іхнюю Германію назад пагоняць?
– Ай, мама, не знаю. Райком приказал урожай срочно убрать и что спрятать, что по людям раздать – врагам ни зёрнышка!
– Па людзях? Во цуд! Дзетка, тады закапаць трэба. У зямлю! Вось у гэтую яму. Ніхто не знойдзе!
Разговоры женщин не тревожили крепко спящую на руках у матери Ларису, она сладко посапывала маленьким вздёрнутым носиком, и Наталья в умилении ещё нежнее прижимала её к себе.
– С хлебом не пропадём. Только бы таких морозов, под минус сорок, как в эту зиму, не было. Даже хата трещала по ночам! – вспомнила неожиданно.
Ефросинья Фёдоровна не ответила. Приподнялась, осмотрелась.
Низко над головой, едва не зацепившись за седую прядку её волос, выбившихся из-под платка, пронеслась стрекоза, спикировала на цветок ромашки, замерла. Глазищи, словно шлемофоны у лётчиков. Летали бы такие «самолёты» – был бы рай на земле.
–Як мышы ў яме сядзім. Цьфу ты! Няма тваіх бомбавозаў! Вылазь!
– Бережёного Бог бережёт, мама, сами так учили, – возразила Наталья. – Нам траншею Трофим выкопал, а вот Дуня Кислова с бабами каждый день с утра до ночи сама окопы роет. Руки в мозолях кровавых. Домой чуть живая приползает… И я бы пошла, да дитё не пускает, – она вздохнула, привычно погладила живот, прислушалась: – Кажется, у нас действительно тихо. Пронесло. Только на западе…
Договорить не успела. Где-то далеко громыхнуло, глухие раскаты докатились до тревожно-обострённого слуха.
– Божанька! Выратуй, захавай, памілуй! – торопливо перекрестилась Ефросинья Фёдоровна.
На следующий день посёлок вдохновенно гомонил:
– Наши хлопцы германца сбили!
– Наши?
– Из истребительного! В плен гадов взяли…
– Ух ты! Самолёт-то сгорел? Посмотреть бы!
– Рвануло, конечно. Дымища столбом. Это в Селищанском сельсовете, а даже у нас было видать…
– Сказывають, в Пылькинском шпиков арестовали, с планами, ракетницами, ти слыхал хто?
– Ага! Человек десять их…
– Брешешь! Шесть немцев переодетых. В бане сховались. Их тёпленькими военным передали.
– Немцы? В Пылькинском? Ай-ёнички! Совсем близко они…
Зачем Наталья пришла на работу да ещё дочку с собой прихватила, навряд ли смогла бы объяснить. Кому сейчас нужны её чертежи крестьянских хозяйств и теодолитная съёмка? Но и разрешения оставаться дома не поступало. Хотя кто мог распорядиться, если, кроме неё и Дуни Кисловой, в конторе никого не осталось. На днях Васильев, нервно жуя на ходу свёклину с луком, заглянул на минутку, сообщил, что уходит в Невель, к семье, которую надо отправить в эвакуацию, потому что на Псковском направлении уже идут ожесточённые бои. И исчез. Юшкевич, Ананьев, Кейзер пропали ещё раньше, Наталья догадывалась, что в истребительном они, если не на фронте. А может, и нет. Куда кто подевался, разве разберёшься теперь? Севостьянов тоже день-деньской где-то пропадает, иной раз дома не ночует. На все расспросы или молчит, или отшучивается: «Любопытной Варваре нос оторвали!». Или бурчит в ответ: «Не бабье дело, меньше знаешь, крепче спишь!».
Кислова тоже с утра со шваброй – трёт мокрой тряпкой пустые кабинеты, раз обязанность такая. Маленькая Лариса тут же, носится по комнатам, топот гулко разносится по помещению, и она пищит от восторга. В конторе ей теперь раздолье.
– Дуня, давай я уцелевшие окна газетами заклею, крест-накрест, чтобы стёкла при бомбёжках не вылетели, – предложила помощь Наталья.
– Ребёнком займись, Севостьянова, коли делать нечего. Поскользнётся на мокром да расшибётся, – уныло отозвалась Кислова.
Наталья насторожилась:
– Ты сама чего раскисла? Случилось что?
– А то нет? – неожиданно вскипела Дуня, и без того румяные щеки её густо покраснели, жилки на шее заметно запульсировали. – Немцы в Городке! Сорок километров от нас! А вчера они захватили Полоцк. У меня сестра там…
– Может, неправда? Трофим сводку приносил за тринадцатое. Врут ведь немцы на каждом шагу, пропаганда это фашистская… Их потери больше наших! А самолётов, танков германских мы столько уничтожили, что представить страшно. Тысячи!
– Так это было тринадцатого. А сегодня какое? – не сдавалась Кислова.
– Семнадцатое июля, – Наталья обернулась, по привычке ища глазами на стене отрывной календарь. И вдруг вскрикнула, отпрянув от окна: – Немцы!
Глава 5. Ночь
Галинка жадно сосала грудь, выплёвывала, снова хватала сморщенный сосок, плакала. Наталья измучилась, не зная, как успокоить ребёнка. Молока не хватало. Чем прикормить? Голова трещала от бессонной ночи и детского крика.
– Лора, доченька, подай-ка мне хлебушка ломтик. В скрыночке, – попросила старшую.
Девочка, сосредоточенно отковыривавшая от печки крошки глины, смачно слизнула их языком с ладошки и помчалась выполнять просьбу. Откусив от сухаря кусочек, Наталья пожевала его, сложила в марлечку, хранимую со дня родов – подарок акушерки Цурановой. Скрутила, перевязала, сунула самодельную соску Галинке в рот и – о чудо! – малышка зачмокала, успокоилась. Лора, наблюдавшая за матерью, впилась глазами в оставшийся сухарь. Тяжело вздохнув, Наталья разломила его пополам, протянула дочери:
– Грызи, мышонок! Схудала совсем…
В сенях стукнула дверь, в комнату заглянула Вера Новикова:
– Здорово, кума!
– Ай, – засуетилась хозяйка, – я ж ещё и печь не топила, не готовила, а тут гостья на пороге!
– Супакойся, охолонь! Я крестнице гостинец принесла, – Вера развернула платок. Крупный бурак закрасовался в её руках. – Это ж мы яму открыли, сохранилась свёкла добра. Лариса, прыгажуня, трымай! Растроганная Наталья обняла подругу:
– Я и так твоя должница! В Лобок, в церкву, одна с моим дитём!
– Чего уж теперь? Дело сделано – покрестила! Есть у Лорки Ангел-хранитель и добренько. Ой, Наталья, – засияла Вера, – там же полицай тогда венчался! Забыть не могу, перед глазами всё, будто сейчас. Чудно! Мы-то с Новиковым расписались в сельсовете. А в церкви – красота! Даже завидно.
– Услышал бы тебя Севостьяновский дружок Скоробогатов (светлая ему память!), – Наталья приглушила голос, – поставил бы вопрос на собрании!
– Зашёл бы он в церкву да на венчание поглядел, сам бы обвенчался с жонкай своей, – горько улыбнулась Вера, уголки губ поползли вниз. – Добрый был человек, если б не партиец, можа, пожил бы яшчэ.
– Донёс кто-то, что райкомовский… Ходи и бойся. И чужих, и своих, – вздохнула Наталья.
Кума прищурила глаза, неожиданно твёрдо спросила: – А Севостьянов тебя солью обеспечил?
– А как же? Запасся, цельный мешок со складов приволок!
– Так я ж за ней, отсыпь! – улыбнулась Вера, поправляя платок, съехавший на покатые плечи и обнаживший толстую русую косу, закрученную на затылке. – Твой Трофим моему Новикову обещал. В деревню собирается, надо старикам в Студёнку передать. Сыпь, не жалея, едаков-то много, – добавила многозначительно.
– Много? – Наталья удивлённо покосилась.
– Насыпай, насыпай! – рассмеялась кума.
Стемнело, а Севостьянов не возвращался. «Где ж его носит?», – сердилась Наталья, прислушиваясь к звукам во дворе. Лариса давно уже спала на печи с бабушкой. Галинка тоже угомонилась, посапывала в колыбельке. А ей не спалось, не лежалось. То и дело вскакивала, вглядывалась через оконное стекло в майскую ночную черноту. В памяти непрошенно всплывали тревожные дни, когда за Езерище ещё шли бои, и она, беременная, с Лорой на руках и со старой в придачу, заявилась к мачехе в Сачни, ведь в Довыдёнках дома не осталось, отец успел до войны в посёлок перевезти, да не успел достроить.
Хоть не мамка Агриппина Сергеевна, а всем нашлось место в её маленькой хатке, где приютились и Григорьевы Ниночка с Алёшей, пока Арсентий Григорьевич и Трофим в лесу пропадали. В деревне одни бабы с детишками да совсем немощные старики. Зато без стрельбы. А в схронах зерно, бульба, бураки, морковка. В сарае курочки, хоть одно яйцо снесут, а всё лучше, чем пустой чугунок в печи. Мужики время от времени появлялись. О чём-то шептались, но куда ходили, чем занимались, женщинам не докладывали. То одежду сменят, то хлебушком запасутся и снова исчезнут. Бывало, мяса добывали: после бомбёжек скотинки-то по лесам-полям много блудило без присмотра. Теперь, как все вернулись в Езерище, мяса нет, при новой власти вообще забыли, какое на вкус.
– Да где же мой Трофимушка? – простонала Наталья, вытирая уставшие глаза от накатившей влаги. Страшно было даже представить, что с ним может случиться. Чуть не каждый день расстрелы в урочище Сенная площадь. Там и пленных, и партизан, и просто неугодных… А из гетто всех евреев, и тех, что из Западной, из Польши в тридцать девятом к нам перебрались, ещё в декабре положили. Даже Фриду Львовну, врача. Она ж деток лечила! Когда мужа на фронт провожала, целовала его, плакала, заливалась слезами, а он нежно так её обнимал, жалел, просил уехать на Волгу. Не послушала. Не верила, что без вины убить могут. «Ну, я бы удрала! Ребёночка с собой и бежать. Даже проволоки колючей не было. Почему же она?» – недоумевала, возмущалась, отгоняя мысли о безвестности мужа.
Прислонилась к стене и, закрыв глаза, тихонько, боясь разбудить детей и старуху, взвыла, будто предчувствуя беду. Отозвалась, заворочалась в люльке Галинка, еле слышно всхлипнула во сне. Наталья спохватилась, наощупь отыскала хлебную соску, обмакнула в чугунок с тёплой водичкой. Прислушалась: сосёт смачно, – и осадила себя: « Да мало ли где Трофим? Не впервой же!».
Качнула колыбель и под мерный скрип не заметила, как опустились веки. Мысли путались, перед глазами вставали то измученные пленные, протягивающие тощие, костлявые руки к лепёшкам, которые она, озираясь на охрану, протягивала через проволочное заграждение. То укоризненно кивал побелевшей головой Тимофей Медведев, будто спрашивал: «Что ж не спасли жену мою? Она же свояченица вам!» – «Пытались, Техан! Пока держали её немцы в сарае возле магазина, мужики вызволить решились да не успели…», – оправдывалась Наталья, леденея от потустороннего печального взгляда Антонины Медведевой, казнённой всё в том же проклятом декабре сорок первого. «Прости, прости!» – беззвучно шевелились губы, а воздух наполнился дымом и тошнотворным запахом горящей плоти. Взметнулся высоко над деревней огонь, жадно пожирающий обугленное тело Разувалова – жуткая смерть за помощь партизанам. Где-то далеко голосила его обезумевшая от ужаса дочка, которую спрятали в своей хате Сепачёвы. А на площади возле адского кострища прыгали-играли ничего не понимающие дети. Наталья, онемевшая, с широко открытыми глазами, отразившими покачнувшееся багровое небо, стояла, не шелохнувшись, словно соляной столб – Лотова жена, обернувшаяся посмотреть на сгорающий город….
«И-и-го-го!», – вдруг заржала невесть откуда взявшаяся кобылица, молодая, упитанная, шерсть лоснится, седла нет, никто с ней управиться не может, а Наталья смело влетает на её мощную спину и скачет к дымящемуся голубыми туманами озеру. И кобылица слушается, признаёт в ней хозяйку, чувствует решительный характер, внутреннюю уверенную силу.
Проснулась от резкого стука в окно. В хату бесцеремонно ввалились полицаи – Павлюченко и Лебедев. Автоматы на изготовке:
– У хате хто? – рявкнул рыжий Лебедев.
Наталья бросилась навстречу, умоляюще зашептала:
– Тихо, тихо, ради Христа! Пожалуйста! Дети ж у меня маленькие. Галечке годика нет. Да старая на печи.
– Чужих няма? – убавил голос полицай, не сводя глаз с Натальи, уж больно хороша она ему показалась.
– Какие чужие? Упаси Господи! Самим есть нечего, проверьте, в хате – шаром покати!
Павлюченко стволом карабина откинул занавеску, заглянул на печь. Ефросинья Фёдоровна, слабо соображая спросонья, испуганно вытаращилась на него по-старчески светлыми глазами.
Лебедев, удобно устраиваясь за столом, широко зевнул, обнажая крупные зубы:
– Хозяйка, мы посидим трошачки. Малость продрогли на улице, – и, растянув губы в наглой усмешке, предложил: – Можа, и ты с нами рядышком? Согреешь?
Наталья метнулась к люльке, словно хотела спрятаться, будто ребёнок мог её защитить.
– Погрейтесь, милости просим! Только не разбудите малую, раскричится, так всю хату поднимет, – прошептала, набрасывая на рубаху мужнин пиджак, тщательно застегиваясь на все пуговицы.
Полицаи молча переглянулись, Лебедев хмыкнул, цинично скривив рот. Павлюченко заиграл пальцами по столу:
– С партизанами связь имеешь?
– Что? – Наталья побледнела, опустилась на краешек кровати. – Как подумать могли? Дети же у меня, старуха…
– Новикова к тебе заходила?
«Господи, соврать или правду сказать?», – растерялась, бросилась к печке, вытащила чугун с запаренным бураком:
– Вот, детям гостинец передала, из деревни. Голодные же мои…
Лебедев живо приподнялся, заглянул в чугун и, брезгливо отвернув нос, позлорадствовал:
– Мужик ейный, Новиков, с партизанами. Точно знаем. А бабу с дитём вместе взяли. Не будет тебе больше гостинцев! – загоготал громко. – Вечером свели в урочище и – капут!
Галинка проснулась, маленькое личико сморщилось, вот-вот заплачет. Наталья подхватила ребёнка на руки, принялась качать-приговаривать, только бы не заметили полицаи, как переменилась она в лице, как смертно заколотилось сердце, как задрожали ноги:
– Ай, разбудили дядьки девочку, ох, разбудили маленькую, а ей же ещё спатьки-спать, будем деточку качать…
– Севостьянов-то дружком был Новикову, – Павлюченко впился в Наталью глазами.
– Ай-люли, люли, люли, прилетели голуби… Скажете тоже – дружок! Да когда ж такое было? – Она нервно вздохнула: – Сели в изголовьице, спите на здоровьице… Ничего мы не знаем… Ни с кем мы не водимся… Севостьянов поселковую баню рубит, там и днюет и ночует… Ай-люли, люли, люли, прилетели голуби…
– Взяли твоего Савостьянова сегодня. В жандармерии. В Сурмино. Там разберутся, какую он баню рубит! – съязвил Лебедев.
Ефросинья Фёдоровна вскрикнула и, неловко скатившись с печи, бухнулась в ноги полицейским, взвыла:
– Злітуйцеся, паны! Не вінаваты мой сыночак! Ні ў чым не вінаваты Трахімушка. Ён жа карміцель на-а-аш…. А прападзем без яго…*
Заплакала проснувшаяся Лора, забилась в уголок, спрятавшись за каптуром. Павлюченко метнул на Лебедева недовольный взгляд:
– Кто тебя за язык тянул? А ты, Севостьянова, гляди, если прознаем что, пойдёшь следом за Новиковой!
Глава 6. Сурмино
Неугомонные соловьи, бесшабашно отрешившись от мирских забот, выводили любовные рулады, утренняя роса радужно переливалась в щедрых солнечных лучах, одуванчики, словно юные балерины, доверчиво расправляли ярко-жёлтые юбочки-пачки, а над ними, озабоченно жужжа, сновали пчёлы. Но Наталья бежала по узкой тропинке, ничего не замечая. «Должен быть выход!» – отчаянно пульсировало в голове.
Она влетела в хату к Серболиным и только теперь заметила, что как была в Трофимовом пиджаке поверх рубахи, так и прибежала. Женя удивлённо уставилась на подругу, забыв про разложенные на столе выкройки. Она славилась хорошей портнихой и, пока муж бил фрицев на фронте, шитьём добывала на пропитание для своей немалой семьи: двое мальчишек и три девочки. Тамарочка с Леной нянчились с младшенькой, а семилетний Лёня и двенадцатилетний Илья промышляли с утра до вечера на озере. То карасиков, то подлещика, то плотвичек, а, бывало, и раков добудут, таскают из нор, куда те на день ныкаются. Тем и кормились.
– Выйди, погомонить надо! – выдохнула Наталья.
Узнав про Севостьяновскую беду, Женя задумалась:
– Без аусвайса в Сурмино не пройдёшь. Можно попробовать через Симонову, которая в наших Панкрах, большой дом у неё, заметный, небось, видела? Она ж при комендатуре! Будет у меня платье примерять – я его уже сметала – поговорю.
С аусвайсами и кошёлками, якобы для картошки, обвязав головы платками, Наталья с Женей шагали по песчаной сурминской дороге, в который раз обсуждая план спасения Севостьянова. До деревни, где располагалась жандармерия, шесть километров. Вокруг лес – кусты, ели да высоченные сосны.
– Под ноги смотри, здесь часто на солнышке гадюки греются, –предупредила Евгения. – В низине болотина у Белого озера, оттого и полно в окрестностях змей.
– Других бы гадюк не встретить, тех, что с белыми повязками на рукавах. От немцев легче отбрехаться, чем от этих паршивцев. Ишь, сколько их к новой власти переметнулось!
– Даст Бог, отбрешемся, а вот как Трофима твоего вызволить?
Подружки умолкли. Солнце поднималось всё выше, идти жарко. Наталья почувствовала, как по спине покатилась струйка. Сбросила кофту, развязала платок, но шагу не убавила.
– Да не гони так! – взмолилась запыхавшаяся Женя. – День велик, справимся.
– Знать бы, что у полицаев с немцами на уме! Забьюць Севостьянова… Веру Григорьевну, родственницу его из Кузьмино, забили! Дочка в партизанах, а мать повесили… Страшно-то как! Добрая была. Тоже портниха, руки золотые, как у тебя. Я ей соли отсыплю. С разбитых складов все, кто мог, натаскали. Она – то платьишко Ларисе, то распашоночку Гале,
– Наталья зашмыгала потёкшим носом. – Забьюць, забьюць Трофима! Как жить без него?
Серболина, светленькая, худенькая, как лозинка, остановилась, резко повернулась и, глядя в упор, твёрдо скомандовала:
–Не смей беду приговаривать! Сглазишь! И не реви! Побереги слёзы, пригодятся ещё.
Неожиданно показались деревенские хаты. Наталья замерла, только дышала шумно, как после бега, и сердечко колотилось, казалось, стучит так гулко, что пройди кто рядом, услышит. И действительно, словно услышал, выскочил с обочины на дорогу полицай Семёнов, потный, раскрасневшийся на полуденном солнце.
–Будто чёрт из кустов! Принесла нелёгкая, – успела шепнуть Женя.
Немец, отдыхавший в тени под сосной, тоже поднялся с земли, зевая, лениво бросил:
– Аусвайс?
– Пропуск есть? – грозно повторил Семёнов, смахивая висящую на багровом носу каплю.
Женщины торопливо протянули документы. Он услужливо передал их немцу, заглянул в корзинки.
– За бульбой! Мы за бульбой! Может, в деревне кто обменяет на соль? – Наталья показала маленький бумажный кулёчек. – Детей покормить.
– У меня пятеро, у неё – двое, – умоляюще заглядывая в глаза полицаю, поддакивала Евгения. – А очистки посадить можно, к осени молодая картошечка вырастет.
Немец снова зевнул и, возвращая документы, равнодушно махнул рукой:
– Überspringen Sie sie!
– Слава Богу! – обрадовались подружки.
– Шуруйте отсель! – гаркнул полицай и, смерив Наталью наглым взглядом, вдруг похотливо шлёпнул её ниже спины. Она отскочила в сторону, обиженно-оскорблённо свернула глазами.
– Ой-ё-ёй! Губки-то надула, – ёрничая и развязно тыча пальцем в сторону девчат, Семёнов подмигнул немцу, громко расхохотался:
Негодуя, еле сдерживаясь, Наталья почти бежала к деревне и в полголоса выплёскивала возмущение:
– Ууу, злыдень! Кабель паршивый! Предатель! Да что б ты провалился в преисподнюю!
Ещё в Панкрах Симонова, передавая аусвайсы, предупредила, что Трофима немцы держат в сарае у первого дома, слева от дороги. Поэтому, поравнявшись с ним, женщины огляделись.
– Кусты обойдём, спрячемся. Там нас никто не увидит. Попробуем к сараю приблизиться, окликнуть, вдруг отзовётся Трофим, – предложила Наталья. – Хоть бы голос услышать…
Заросли молодой крапивы, успевшие вымахать на солнечном припёке по пояс, не испугали. Не обращая внимания на хлёсткие, обжигающие прикосновения жёстких стеблей, подруги упорно пробирались к цели. Но как только приподнялись из травы, чтобы добежать до стены, зычный окрик: «Партизаны?!», – пригвоздил их на месте.
Часовой полицай, молодой парень с чёрными, под Гитлера, будто вычерченными усиками, с удивлением рассматривал незнакомок с пустыми корзинками:
– Бабы, вы чего тут забыли? Или своровать что вздумали?
Женя испуганно закрутила головой. Наталья, бледная до синевы, словно онемела. Мысли, слова враз исчезли, язык, словно прикипел к нёбу. Не дождавшись ответа, часовой ткнул её стволом винтовки:
– А ну, в жандармерию обе! Там разберутся, что вы тут вынюхивали, языки быстро развяжутся!
За столом у окна полицай в немецкой форме, нарукавная повязка с надписью: «Treu Tapfer Gehorsam», острым ножом строгал сало, на тарелке уже нарезанные вдоль солёные огурцы, крупная луковица, ломоть домашнего хлеба.
– Это кто? – рыкнул раздражённо, мотнув острым подбородком.
– У сарая отирались! – вытянувшись спичкой, отрапортовал часовой.
– Кто охранять остался? Никто?! Придурок! – заорал начальник, удостоенный гитлеровского звания гаутман. – Ты зачем этих баб притащил?
– Виноват! – часовой съёжился, попятился к дверям. – У сарая они…
Не выпуская нож из рук, полицай, набычившись, переводил разъярённый взгляд то на одну, то на другую:
– Ну? Молчать будем?
И тут Наталью с Женей словно прорвало – в два голоса, перебивая друг друга, они заголосили:
– Дорогу хотели сократить, по тропинке хотели…
– За бульбой мы, с Езерища…
– Не виноватые, ни в чём не виноватые!
– Никого в деревне не знаем, а по дороге страшно, пан полицай…
– Пан, добренький пан, отпустите, у нас детки одни остались!
– Ой, малыя ж детки-и…
– Да какие партизаны, смилуйтесь, – просила, заливалась слезами Женя. – Девочки у меня несмышлёные, мальчишки совсем малые… Портниха я! Может, что сшить надо? Так с радостью, вам понравится! Может, жене вашей, деткам. У пана есть детки?