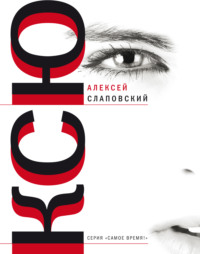
Ксю
Угостился и заскучал. Он маньяк дела, мономан. Так бывает не только у политиков и бизнесменов. У альпинистов, например, писателей, художников. Преодолеть, победить, взобраться, закончить, стать выше всех. А что потом? Новая гора, картина, роман. Компьютерные игроманы, геймеры – из той же породы. Потратив месяц бессонных ночей на прохождение сотни уровней сложной игры, они тут же берутся за новую. Разница в том, что альпинисты, художники, писатели и геймеры чаще всего не имеют ни славы, ни денег, ни положения в обществе, а у Сулягина, как и у моего папы и других им подобных, это есть. И конечно, они от этого балдеют, прутся, тащатся, наслаждаются этим. Человеку мало делать что-то мощно и хорошо, ему надо, чтобы это видели и хвалили.
Я сама такая. Я была постоянно заточена на похвалу, я болела этим, я жила ради этого. Самая красивая, самая умная, чтобы восторгались и родители, и все их друзья и знакомые, и учителя. С одноклассниками сложнее, предметом общего обожания никогда не будешь. Только у большинства. А некоторые будут ненавидеть, и с этим придется смириться. И даже получать удовольствие. Для этого надо быть немного стервой. Это хорошо получалось у самой авторитетной девочки нашего класса, у Ясы.
Вот картинка. У нас был урок технологии, проще говоря – труда, домоводства. Школа хоть и элитная, но родительский комитет и руководство решили сохранить некоторые традиционные предметы – для демократизма. Тема урока – техника безопасности при работе с домашними электроприборами. Учительница вызвала отвечать Олесю Ровенскую, девочку заносчивую, с задатками лидерши. Олеся оттарабанила наизусть, как стихи:
– Все работы выполнять в перчатках,
перед включением электрического прибора проверить исправность электрического шнура,
включать и выключать электроприборы сухими руками,
надеть фартук и косынку, закатать рукава одежды,
не оставлять включенные электроприборы без присмотра,
не допускать приближения к электроприборам домашних животных,
в случае аварийной ситуации не пытаться устранить ее самостоятельно.
Правила эти составила и очень гордилась ими сама наша учительница Маргарита Павловна, дама пожилая и незамысловатая. А в то время у нас в школе администрация внедрила модную методику диалогового вовлечения. Теперешнее Знание шепнуло мне, что эта методика возникла в античную эпоху, а то и раньше. Обычно ученица или ученик отвечают, а учитель слушает, поправляет, задает вопросы. По новой методике нужно назначить другого школьника на эту роль. В тот раз назначили Ясу. И Яса начала спрашивать:
– Олесечка, а как проверить исправность электрического шнура?
– Осмотреть.
– Что?
– Шнур.
– И?
– Что – и?
– Как ее увидеть, эту неисправность? Шнуры же, это же не просто провода, они в этой…
– В оплетке, – подсказала Маргарита Павловна, не понимая, к чему ведет Яса.
– Ну да. А вдруг оплетка целая, а провод внутри испортился? Порвался? Перегорел?
Олеся посмотрела на Маргариту, и та выручила:
– Если оплетка целая, то вряд ли.
– Хорошо, – приняла Яса, показывая, она ответ считает сомнительным, однако спорить не хочет.
И продолжила:
– Еще такой момент, Олесечка. Вот ты говоришь: включать и выключать сухими руками. Но ты же в перчатках.
– На случай, если их нет, – отбилась Олеся, и Маргарита кивнула.
– Ладно, – приняла и это Яса, и тоже с долькой иронии. – Еще не поняла я, как это – закатать рукава одежды?
Олеся уже слегка злилась:
– Что тут непонятно?
– Зачем уточнять, что рукава одежды? Разве бывают рукава у чего-то другого? Лишнее слово, я считаю. Но это мелочь, конечно, – Яса не дала возможности оправдаться, наседала дальше: – С домашними животными тоже как-то странно. Кошки и собаки под торшерами лежат, гнать, что ли, их оттуда? Или вот я рекламу стиральной машины видела, там кошка на ней спит, и нормально считается.
И Олеся, и Маргарита готовы были объяснить, но Яса не сбавляла темпа:
– Это опять пустяки, а вот ничего не делать при аварийной ситуации – совсем ничего?
– Пожарку вызвать, если загорится, – сердито ответила Олеся. – Или электриков. Или родителям позвонить.
– А если огонь? Даже тушить нельзя? Позвонить, а самой ждать, когда все сгорит?
Мы наблюдали и радовались. Все понимали, что это наезд не столько на Олесю, сколько на Маргариту.
А Маргарита по простоте своей спросила напрямую:
– Ты считаешь, эти правила составлены неправильно?
Яса улыбнулась и пожала плечами. Зачем вслух говорить то, что и так ясно?
Олесю же заботило другое:
– Правильно, неправильно, я что, ошиблась? Забыла что-то? Если да, тогда да, а я все ответила, как задали, а ты придираешься!
– Я не придираюсь, Олесечка. Ты все точно ответила. Но ты даже не понимаешь, что и зачем будешь делать. И как ты замуж выйдешь тогда? Не возьмет никто, а ты ведь страшно замуж хочешь.
Наши девочки были в восторге. Яса унизила, опустила, затроллила бедную Олесю, которая считает себя лучше всех, вот пусть и получит!
Приемы Ясы были не от великого ума, а от природы, от данного ей таланта видеть слабые места в человеке и это использовать. Неважно, действительно ли Олеся хотела замуж, но Яса сказала об этом уверенно, как о факте, и это тут же стало для всех фактом. И фактом щекотливым – все, связанное с отношениями полов, девочек будоражит. Ведь да, придется рано или поздно идти замуж, интересно, как оно будет? Мысли эти вслух не выговаривали, и каждой было бы неприятно, если б уличили, что она этим озабочена. Потому мы, глядя на унижение Олеси, тайно радовались: не меня растоптали, не меня!
Видите, сколько тут всего? Это я сейчас поняла, а тогда мне было нехорошо. Я переживала и за Маргариту, и за Олесю. Я не любила, когда над людьми издеваются. Мне больно за них делалось. Такая я была хорошая.
Яса добилась своего, вывела из себя Олесю, та крикнула:
– Сама ты замуж хочешь, дура!
– Конечно, хочу! – ответила Яса. – Поэтому вообще никакого электричества касаться не буду.
Блистательно, согласитесь. Одним ударом и все правила Маргариты уничтожила, и перевела тайное в явное, тему замужества легализовала. Получилось – то, чего Олеся якобы секретно хотела, хотеть можно прямо и открыто.
Неизвестно, как вывернулась бы Маргарита, но ее выручил звонок. А потом произошло вот что: Яса подошла к Олесе, села на парту перед ней, взяла ладонями ее голову и, хотя Олеся, еще не остывшая от обиды, пыталась отвернуть лицо, поцеловала ее в лоб и сказала:
– Не загоняйся, Леська, я прикалывалась, ты же знаешь, я тебя люблю! Прости дуру!
Господи, как горячо стало мне – и в сердце, и в животе, и еще где-то! Какая славная эта Яса, какая умница – сама обидела, сама и извинилась! И она права, мы действительно занимаемся ерундой на этом уроке. Да и на других, возможно, тоже.
Вы скажете – про какие-то пустячки рассказываю. Да нет, не пустячки. Это история моего детства: я и боялась Ясу, и была влюблена в нее.
А она со мной вела себя так же, как и с другими. Переменчиво. То посмеивается надо мной по поводу и без повода, то вдруг подойдет, обнимет и скажет:
– Надо же, какие глазки печальные! Что случилось?
А у меня ничего не случилось, у меня такие глаза – кажутся печальными, когда я задумываюсь. Но тут же хочется, чтобы что-то случилось. Пожаловаться – чтобы Яса утешила. Однажды, задолго до случая на домоводстве, я взяла и ляпнула:
– У меня у папы рак. Он умирает.
Вот что это? Наклепать на самого любимого человека!
Объясняется частично тем, что я тогда, мне было восемь с половиной, отставала от ровесниц, и мозгов у меня наросло едва лет на семь. Они-то многие уже были, как я понимаю теперь, готовые будущие тетки, ехидные шкоды, злокозненные сучки. Да нет, зря я, дети как дети, умеющие и обижать, и обижаться. А у меня и обижать не получилось, да и не хотела я этого, и обижаться не научилась. Разве нельзя всегда жить дружно и весело?
Тема страшной болезни возникла в моей странной головенке, потому что незадолго до этого папа рассказывал маме о своем сослуживце, у которого нашли этот самый рак.
– В сорок два года, жуть какая-то! Смотреть на него больно – лицо белое, глаза тоскливые. Ты представь – человек просыпается, умывается, чистит зубы, и тут мысль: а зачем это все, все равно скоро помру, зубы даже испортиться не успеют. На работу едет, и опять – зачем мне теперь работа, зачем деньги? А он еще ремонт в новой квартире начал, и то же самое – на кой черт теперь мне этот ремонт?
– Жена, дети, – сказала мама.
– Да развелся он как раз с женой! Для себя квартиру построил, радовался – новая жизнь с чистого листа! Вот тебе и чистый лист!
Я слушала и думала: конечно, сорок два года – уже немало, пожил человек, но все равно жалко. Больше всего в рассказе папы потрясло, что это обнаружилось неожиданно. Пришел в больницу анализы сдать, а там – бомба. И я несколько ночей ворочалась, долго не могла заснуть. Вдруг и во мне бомба? А в мамочке? А в папочке?
Вот и ляпнулось.
Сама испугалась, но было поздно. Яса чуть не заплакала, погладила меня по щеке:
– Ксю, кошмар какой! Держись. Может, тебе надо чего?
– Ничего. Это между нами, ладно?
– Конечно.
И несколько дней я была счастлива: у нас с Ясой на двоих одна тайна, пусть и фальшивая. Она меня чуть не облизывала все это время. Но не удержалась, рассказала своим родителям. А те еще кому-то. Так дошло и до папы. Он удивился, начал доискиваться, откуда этот слух пошел. И доискался. Грустно спросил:
– Зачем ты это выдумала, Ксю? У тебя проблемы? Чего тебе не хватает? Слишком хорошо живется, трагедии захотелось? Объясни.
Я не могла объяснить, только ревела и икала.
Яса, узнав о моем вранье, очень разозлилась. Наверное, жаль стало потраченной впустую доброй энергии. А я шла в школу, как на казнь. И Яса меня казнила. Два раза. Сначала подошла и прошипела:
– Ты совсем, что ли, такие вещи выдумывать?
– Я разговор их услышала, папы с мамой, не так поняла.
– Да ладно врать-то!
И отошла. Я думала, все, этим кончилось. Даже порадовалась – Яса говорила со мной тихо и в сторонке, значит, не хотела перед всеми позорить.
Ничего подобного, была и вторая казнь. Учительница наша, Элла Дмитриевна, задала мне какой-то вопрос по уроку, я встала, и тут Яса на весь класс:
– Не трогайте ее, у нее папа умирает! Или уже похоронили, Ксюх?
Элла Дмитриевна знала об этой истории, в школе все быстро разносится, поэтому невольно усмехнулась, но тут же стала серьезной:
– Не надо, Яса, шутить на такие темы!
– Я не шучу, это она шутит! Наврала мне зачем-то!
– Всякое бывает, – неопределенно сказала Элла Дмитриевна, как бы и защищая меня, но защищая не очень активно, чтобы не показалось, что она оправдывает вранье.
– Ну да, бывает! Она знаете для чего? Она чокнулась, чтобы лучше всех быть!
– При чем тут это? – не поняла Элла Дмитриевна.
– При том! У нее чтобы даже горе было лучше всех!
Яса так уверенно это сказала, что и я поверила: да, я такая, я гадина, способна на любую подлость, в одном Яса не права – не ради того, чтобы быть лучше всех, а чтобы она меня любила.
И так было все годы, пока мы учились вместе. Яса то приближала меня, то отдаляла, то обнималась со мной, то находила повод посмеяться. И, как правило, при всех.
Однажды я рассказала об этом папе. Он разобрался сразу.
– Все с ней ясно – манипуляторша. Повышает свою популярность за чужой счет. Механика нехитрая, политика кнута и пряника. Ты не знаешь, как она себя поведет в следующий момент, чувствуешь себя неуверенно, начинаешь ее задабривать, ведь так?
– Мне тоже так себя вести? Кнутом и пряником?
– Не сумеешь, не тот характер. Для тебя самое лучшее – отстраняться. Она смеется, а ты не замечаешь, не обижаешься. И ей надоест. Если игру не поддерживают, играть скучно.
– А она играет?
– Все играют. Больше всего – в себя. Каждый человек себе создает роль и в нее вживается. Приближает себя к идеальному образу. Даже какой-нибудь гаишник остановит тебя, и он не просто гаишник, он играет в идеального гаишника. Не лучшего, а такого, какого он себе представляет, как идеального, понимаешь? Или какой-нибудь начальник, когда он не один сидит, а, допустим, совещание проводит. Он не только начальник, он еще и играет в начальника. Изображает сам себя – лучшего, чем он сам.
Папа увлекся, развивал тему:
– Но и роль найти – еще не все. У каждого свой уровень вживания. Уровень первый, поверхностный, – я, к примеру, начальник, и точка. Святая вера в то, что я хорош такой, какой есть. Уровень второй – я начальник, но еще и играю в начальника. В свое идеальное представление. Смотрюсь в него, как в зеркало, мы же все окружены невидимыми зеркалами. Уровень третий – я начальник, я играю в начальника, но! Но сам при этом наблюдаю, как я играю в начальника! И посмеиваюсь. Я и в ситуации – и вне ее. Я смотрю не в зеркало, а на себя, глядящего в зеркало. Чтобы не заиграться.
– И у тебя какой уровень?
– Конечно, третий.
– Это во всем так? Ты и со мной не просто папа, а играешь в папу, да еще и наблюдаешь, как ты играешь в папу?
– Нет. С тобой я просто папа. Без игры.
Он засмеялся, легонько щелкнул меня по носу, я это очень любила:
– Получила мудрость? Наблюдай и не торопись. Не подыгрывай.
Это была для меня и правда мудрость, я решила на другой же день вести себя по-новому. Пришла в школу, дождалась, когда Яса скажет мне что-то веселое. Обычно я торопилась заулыбаться, засмеяться, а на этот раз равнодушно хмыкнула: да, возможно, это смешно, если ты так считаешь. И в другой раз, и в третий реагировала так же.
– Ты чего-то какая-то тормознутая, – вглядывалась в меня Яса.
– Да нет, я так…
Яса хмыкнула, отвернулась и отошла.
Я испугалась. Что, если она совсем перестанет шутить со мной, замечать меня, любить меня? Я так не могу. Хочу, чтобы любила. И она, и все.
Я знаю одного похожего на себя. Миша Зборович, мой однокурсник. Бывший. Теперь у меня все – бывшие. Он с детства сочинял стихи, потом начал выкладывать их в Сети, в своем блоге и на сайте «Стихи. Ру», принимал участие в конкурсах. Я удивилась, когда узнала, сколько людей в наше время увлекается поэзией, думала, теперь только рэп и баттлы. Я в поэзии, скажу честно, не понимала ничего, тому, что Пушкин, Лермонтов или Пастернак великие поэты, верила на слово. Но Мишины стихи нравились – простые, понятные. Он читал их мне по телефону сразу же после написания. Мог позвонить ночью. Когда я сказала, что ночью ничего не воспринимаю, начал посылать тексты в мессенджеры. Во все сразу – на всякий случай. Сейчас я помню все его стихи. У них был общий заголовок: «Ненаписанное». Вот, например:
Все философии и любой богв любых его немыслимых видахо том, что будет последним? – выдох?или все-таки вдох?Или:
Здесь не живые хоронят своих мертвецов,здесь мертвые хоронят живых.Или:
Зачем говорить,если из десяти семеро не слышат,из оставшихся троих двое не понимают,а десятый и без меня знает то,о чем я хочу сказать?И вот Миша увлекся поэтическими молодежными турнирами, которые проводились в библиотеках, в кафе, в книжных магазинах – в «Республике», например, устраивались регулярно. И довольно часто побеждал. Там были и обсуждения. И бывало так: все Мишу хвалят, всем нравится, но встанет кто-то один и поругает – и все, Миша впадает в депрессию, ему кажется, что его стихи никуда не годятся, он ложится дома и тяжко страдает. Потом кое-как перезагружается, и все начинается сначала.
Я однажды спросила:
– Ты, наверно, мировой славы хочешь?
Он ответил:
– Да, конечно. Иначе какой смысл?
Кто знает, может и добьется.
3Ну вот…
Лежала я на кровати в гостинице и думала: пойти, не пойти?
Было много аргументов за и против. Ясно одно – мне там будет плохо. Но и папе сейчас плохо, не сравнить, как плохо. Значит, пусть и мне достанется. А поскольку жизнь есть переплетение сообщающихся сосудов, то, возможно, если что-то плохое прибавится мне, оно убавится у папы. Такая вот нелепая, но небезосновательная мысль.
И я позвонила Петру Петровичу, моему водителю и охраннику. Папа нанял его после того, как меня облили краской при выходе из школы. Синей масляной краской. Какой-то подросток плеснул и убежал. Кто его послал, за что меня облили, осталось неясным. Может быть, папа что-то знал, но не хотел говорить.
Петр Петрович был из спецслужб, отставник, очень высокий, я со своими метром семьюдесятью четырьмя (хорошо, что говорю не вслух, а то бы не выговорила) едва доставала ему до подбородка. Вообще большой, даже огромный. Плечи в два раза шире моих, большая голова, тоже вдвое больше моей, все очень большое, но хорошо сложенное. При этом легкий, ходил так, будто земное притяжение его не очень притягивает. И еще у него был шрам через всю щеку. Через левую.
Он привозил меня, терпеливо ждал в машине или вестибюле, в стороне от других водителей и охранников, что-то читал в планшете-читалке или ничего не делал, сидел и о чем-то думал. Говорил со мной мало, только улыбался и любовался. Отечески. У него самого были уже маленькие внуки от двух дочерей и сына.
Однажды я спросила:
– Петр Петрович, а почему вы, такой особенный, такую работу выбрали?
– Я особенный?
– А то сами не знаете!
– Может быть. У меня, Ксения, жизнь была большая. Две семьи было, два дома построил, всех обеспечил. Страну объездил вдоль и поперек. С интересными людьми встречался, с негодяями тоже. Убить могли.
– Поэтому шрам?
– Поэтому шрам. А потом я устал, решил пожить один. Ушел со службы. И мне понравилось лениться. Пример с меня не бери, трудиться надо, учиться надо. Мой пример отрицательный.
– Ладно. Как лениться? Ничего не делать?
– Ничего не делать – с ума сойдешь. Почитать что-нибудь, посмотреть кино, я много книг пропустил, много фильмов, некогда было. О жизни подумать. И я искал такую работу, чтобы и деньги нормальные, и не утомительно. И у твоего отца нашел, приятель меня порекомендовал. Мне хорошо, меня все устраивает. Ну, и еще болею немножко, но так. Терпимо.
– Не смертельно?
– Смертельно, но не сразу.
Я привыкла к Петру Петровичу, ездила с ним и тогда, когда мне купили машину и стали отпускать наконец одну дальше, чем до супермаркета. Оказалось, что свобода передвижения мне не очень-то и нужна, да еще пробки эти подмосковные и московские, суета, напряжение. С Петром Петровичем удобнее, поэтому я и в Питер с ним приехала. Сначала хотела самолетом, а он выехал бы раньше и там меня встретил, но было начало мая, земля зазеленела, небо заголубело, захотелось ехать по трассе и смотреть в окно, где то березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?
Я вышла к машине, Петр Петрович изнутри приоткрыл дверцу, но я стояла – вглядывалась, вслушивалась, улавливала запахи. Словно попала в незнакомый город, незнакомый мир. Звуки казались резче, фасады домов и лица людей рельефнее, сплошное 3D, от каналов пронзительно тянуло холодной волглостью и чуждостью. Все было чужое – город чужой, дома, люди, даже небо казалось чужим, и машина, и Петр Петрович.
Я села, положила на колени сумку.
– На Фучика? – спросил Петр Петрович.
Это значило – на улицу Юлиуса Фучика, к Университету профсоюзов, в здании которого проводилась конференция.
Мне показалось смешным слово «фучик». По правде говоря, я тогда не знала, чья это фамилия. Теперь знаю и смешливость свою строго осуждаю.
Фучик, чушь какая, думала я. Фучик. На фучика едем. На фу-фу.
Кивнула, поехали, а наваждение продолжалось. Я несколько раз была в Питере, а это такой город, что впечатывается в память сразу же. Теперь казалось – впервые вижу. Но вот проехали мимо Казанского собора, и я его сразу узнала, невозможно не узнать, и поняла, в чем дело. Все осталось прежним, но все изменилось. Было ощущение, что и небо, и здания, и люди знают, что со мной произошло. И не глядят на меня, жалеют, щадят. Отстранились, отчуждились. И Петр Петрович не смотрит на меня, тоже щадит. И отдушка сегодня слишком пахучая – для отвлечения, что ли? Интенсивная ароматерапия?
– Это что за запах?
– Где?
– В машине?
– Как всегда. Тебе же нравится. Морской запах, сам составляю, химичу.
– Да нет, нормально. Это у меня с обонянием что-то.
– Насморк?
– Наоборот.
– Это как?
– Да ладно, ерунда.
– А то могу проветрить.
– Не надо.
– Как скажешь.
Он говорил со мной, как с больной. Знает. Знает, но молчит. Деликатный.
И тут дошло: окружающее не изменилось, я изменилась. Не внутренне, там все осталось таким же, а – для этого самого окружающего. Из гостиницы вышла не я, а дочка пойманного чиновника. Почти преступника. Таков статус мой теперь – дочка преступника. И даже для милейшего и роднейшего моего Петра Петровича, для этой машины, для неба, зданий и людей я теперь – дочка преступника.
А вот фиг вам, сказала я мысленно. Не дождетесь. Это вы так считаете, а я такая же, как и была. И меняться в угоду вам не собираюсь. Войду сейчас с гордо поднятой головой, и глядите, как хотите, говорите, что хотите.
Через полчаса я шла по коридору с гордо поднятой головой.
Петр Петрович следовал за мной, соблюдая дистанцию. На него заранее был выправлен пропуск.
Вошла в аудиторию.
У двери караулил модератор, молодой человек блеклой внешности, о котором я ничего не знала, кроме имени – Степан. Он звонил мне несколько раз, пока я ехала, я не ответила. Степан не стал задерживать меня в двери, пропустил мимо себя, только поздоровался, как и со всеми. Дождался, когда я села на свободное место, с краю, не спеша пошел по проходу, встал боком возле меня, заговорил, не глядя в мою сторону, продолжая приветствовать входящих, энергичными нырками выпячивая голову на длинной шее вперед и вниз, как делают птицы в брачных танцах. Разве что крыльями не хлопал.
– Я думал, вы не придете, – промямлил он тусклым голосом.
– Я пришла.
– И будете выступать?
– Почему нет?
– Ваше право, конечно. Но меня попросили попросить вас…
– Скажите, я уперлась. И могу учинить скандал, если мне не дадут прочитать доклад. Какая я там, четвертая?
Он уставился в программу. Смотрел долго – может, надеялся, что моя фамилия чудесным образом пропадет. Наконец подтвердил:
– Да, четвертая. Значит, без вариантов? Будете читать?
– Без вариантов.
– Я передам.
Он пошел к столу, за которым сидели трое пожилых мужчин академически солидного вида и сухая женщина в темно-синем костюме, на лацкане у нее прикреплен был трехцветный значок, то ли депутатский, то ли партийный. Степан что-то говорил ей, она хмуро слушала, конспиративно не глядя на меня, чтобы не привлекать внимания и не усугублять этим проблему, но у нее, как и у всех людей ее типа и положения, было фасеточное зрение, подобное зрению мухи. Она, не поворачивая головы и не вращая глазами, умела видеть вокруг себя все. И меня одной из своих фасеток рассматривала. Мой наряд, выражение лица, положение рук, разворот плеч. Оценивала мою готовность выполнить обещание и устроить скандал.
Она не могла подойти ко мне или подозвать к себе, это слишком заметно. Поступила хитроумно – Степан сказал ей номер моего телефона, она набрала, встав при этом и отойдя к окну, глядя в него. Я взяла трубку.
– Ксения, зачем вам это? – спросила она окно.
– Прощу прощения, вы кто?
– Марголина Ангелина Викторовна. Эксперт и представитель Фна.
– Фна?
– Фонд научных инициатив, у вас же в программе это написано, зачем вы…
– Я поняла. Давайте не будем тратить время. После третьего докладчика я выйду – в любом случае.
Слышала бы меня та Ксю, та Ксюшечка и Ксенечка из детства, которая не умела никому отказывать, чтобы не огорчить. Сразу же отвечала: да, конечно, конечно, как скажете, как просите, как велите.
– Это может усугубить ситуацию, – Марголина не теряла надежды меня уговорить.
– Какую ситуацию?
– Вашу и нашу. Тут представители прессы есть. Я их лично попросила вас не беспокоить, они ведь слетелись, как вороны, извините, на падаль.
– Хорошее сравнение.
– Ну как пчелы на мед, это нравится? Сроду к нам журналисты не заглядывают, а тут штук пять сразу. Я их предупредила, что тут же удалю, если попытаются что-то с вами… Правда, я думала, вы не придете… Боюсь, после доклада не утерпят и спросят что-то не по теме, а совсем про другое. В печать попадет. Как думаете, нам нужна слава таким способом?
– Почему бы и нет? Может, даже кто-то поинтересуется, что за конференция, материалы прочитает. В кои-то веки.
– Вы издеваетесь?
– Ангелина Викторовна, я буду читать доклад, извините, говорить больше не о чем.
Я отключилась.
Начались выступления докладчиков. Они выходили к кафедре, стоявшей рядом со столом, зачитывали свои тексты, которые никто не слушал. Все ждали меня. Одна Марголина демонстрировала заинтересованное внимание, а сама своим фасеточным зрением сканировала зал – пыталась уловить, откуда может исходить угроза.