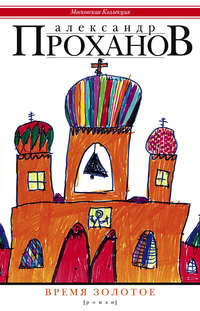
Время золотое
Толпа на экране рябила плакатами, флагами, тряпичными чучелами Чегоданова, рисунками, где, трусливо озираясь, Чегоданов тащил на плече куль наворованных денег. Все это видел Чегоданов, испытывая больное недоумение, мстительную неприязнь к людям, которые еще недавно обожали его, славили, складывали в его честь верноподданнические песенки, демонстрировали преданность и любовь. Он привык, что ему рукоплескали при появлении на публике. Что во время телемостов ему задавали комплиментарные вопросы. Что женщины писали ему любовные письма. Что ведущие издания мира нарекали его «Человеком года». Что на выборах он побеждал с заоблачным превосходством. И в сознании народа утвердился его образ спасителя Отечества, победителя в кровавой кавказской войне, укротителя еврейских олигархов. Что же случилось? Когда покачнулось вероломное общественное мнение? Когда народ отказал ему в любви? С какого момента, с какой нелепой пиар-акции он вдруг стал сначала смешным, потом раздражающим, а теперь ненавистным? Быть может, с момента, когда, покидая Кремль после второго президентского срока, он поставил вместо себя мнимого президента Стоцкого, управляя послушной марионеткой? Или когда во время кризиса, спасая банки-банкроты, насытил деньгами одних, забыв о других, и эти, забытые и обиженные, начали спонсировать оппозицию, создавать телеканалы, радиостанции и газеты, демонизирующие его, Чегоданова?
Сцена на Болотной, озаренная прожекторами, парила над сумеречной площадью. Казалась фантастическим ковчегом, спустившимся из осеннего неба в центре Москвы. Этот ковчег доставил на землю загадочного пришельца, чтобы тот отнял у Чегоданова власть. Мощно и яростно Градобоев возносил кулак, издавал громогласные рокоты, и толпа заколдованно и восторженно вторила пришельцу.
– Чегоданов вцепился во власть, как клещ, набряк русской кровушкой, но все не может отпасть! Мы поможем ему! Его власть превратится в дым, который вьется над трубкой смехотворного режиссера Купатова. Все его прихвостни, миллиардеры, чекисты, вороватые чиновники, телохранители, все эти Любашины, Погребцы и Божки сбегут от него, и он останется один, голый и жалкии, перед лицом разгневанного народа! – Градобоев умолк, и Чегоданов почувствовал, что с экрана на него устремлены насмешливые беспощадные глаза. – Чегоданов, я знаю, ты слышишь меня! Ты видишь меня! Посмотри мне прямо в глаза!
Лицо Градобоева увеличилось, заняв экран. Чегоданов видел его сильные, широкие скулы, бычий лоб и яростные немигающие глаза. Блестящие белки, черные зрачки, которые, как раскаленные спицы, пронзали Чегоданова… Он вдруг испытал ужас, темную неодолимую бесконечность, которая открылась в глазах ненавидящего человека. Потрясенный, отвернулся от монитора.
Послышалось легкое похохатывание, щелканье каблуков. В кабинете появился президент Валентин Лаврентьевич Стоцкий. Его голова с выпуклыми влажными глазами, сытыми щеками и вьющимися приглаженными волосами была слишком велика для маленького изящного тела и делала всю его фигуру неустойчивой, шаткой. На нем был щегольской костюм, изысканный галстук, носки туфель слегка загибались, и было что-то мальчишеское в его щегольстве и что-то карикатурное в непропорциональном сложении. Он появился внезапно и своим жизнерадостным видом нарушил общую тревогу и подавленность. Приблизился к Чегоданову, небрежно положил руку ему на плечо, насмешливо уставился на экран.
– Птичий базар! Кулики на болоте! А эта птица покрупнее кулика! – Он весело вслушивался в слова Градобоева, который грозил вынести Чегоданова из Кремля.
Чегоданов раздраженно повел плечом, стряхивая руку Стоцкого. Ему почудилось злорадство в словах президента, которому нравилось слушать, как хулят Чегоданова. Весь его легкомысленный вид, повадки плейбоя, сияющие выпуклые глаза казались оскорбительными Чегоданову в этот тревожный, грозный момент. Мир начинал колебаться, власть ускользала, и внезапно появился опасный враг, который собирал вокруг себя все больше сторонников.
– Им не откажешь в остроумии. – Стоцкий не замечал раздражения Чегоданова. Со смехом рассматривал плакатик, на котором Чегоданов, вооруженный гаечным ключом, завинчивал гайку на лбу несчастного интеллигента.
Все вскипело в Чегоданове. Все было неприятно, почти отвратительно в Стоцком. Мучительный клубок сомнений и подозрений зашевелился в душе. Мнительность и ожидание вероломства проснулись в нем. Обнажились весь риск и опасность интриги, связанной с выдвижением в президенты Стоцкого, когда у Чегоданова истек второй президентский срок и Конституция возбраняла избираться на третий. Тогда, убоявшись западных ненавистников, не желая прослыть узурпатором, он вверил власть своему приближенному, полагаясь на его верность и преданность, веря, что через четыре года тот вернет ему власть. С того момента, когда Чегоданов отступил на второй план и возглавил правительство, он не ведал покоя. Ждал президентского указа, которым Стоцкий вышвырнет его из политики. Следил за либералами, которых принимал под свое крыло Стоцкий. Читал донесения агентуры, в которых передавалось содержание тайных переговоров Стоцкого с лидерами Америки и Европы. Все это теперь вскипело в нем, и страхи, исходящие с Болотной, слились с мучительными страхами в ожидании предательства Стоцкого.
Но Стоцкий, в своем инфантильном самодовольстве, не замечал состояний друга.
– Да, кстати, хотел тебе сообщить. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с нашей германской подругой. Она просила пересмотреть некоторые контракты, связанные с нефтью и сталью.
– Как ты сказал? Вчера? – глухо переспросил Чегоданов.
– Ну да, вчера. – Стоцкий, улыбаясь, смотрел, как над площадью поднимается воздушный шарик с надписью: «Я – Чегоданов».
– Почему, если разговор состоялся вчера, ты докладываешь мне об этом сегодня?
– Извини, забыл, – удивился Стоцкий. – Были встречи с лидерами думских фракций. Потом глава Ингушетии, правозащитники из «Мемориала». Вечером пел Элтон Джон, я думал, ты приедешь, и я тебе доложу.
– Ты что, считаешь меня политической пешкой, с которой больше не нужно считаться? – с тихим, свистящим дыханием произнес Чегоданов, и Стоцкий, уловив этот знакомый свистящий звук, изумленно взглянул на Чегоданова:
– Федор, что ты! Я действительно забыл! Не хотел беспокоить! Повод ничтожный!
– Ты фазан с фальшивым хвостом! Упиваешься властью! Возомнил себя президентом! Говорил американскому послу, этому иудею из Висконти, что одним взмахом пера отправишь меня в отставку и избавишь обе наших страны от чекистского последыша!
– Федор, не было этого! Нас просто хотят поссорить!
– Тайно встречался с этим глистом, который тратит свои миллиарды на болотную гниль! Если выборы вызовут волнения, ты признаешь их нелегитимными, назначишь перевыборы, где я не буду значиться, и ты выдвинешь свою кандидатуру? И тебя поддержит вся эта болотная тина?
– Федор, побойся Бога! Кто-то вбивает между нами клин! – Стоцкий посмотрел в сторону начальника охраны Божка, который остро и весело наблюдал разгоравшуюся ссору.
– А эта твоя плоскогрудая вобла, пресс-секретарша, оплачивает статьи в либеральных газетах, где меня называют «палачом Чечни» и «российским Пиночетом»!
Стоцкий покраснел, его выпуклые глаза слезно заблестели, ляжка нервно дергалась, и этот тик, красный цвет пухлых дрожащих щек, выпуклые, воловьи глаза вызывали в Чегоданове ярость. Он чувствовал, как размыкается в груди обруч, в котором он умел удерживать свой нрав, свои тайные страсти, всплески эмоций. В грудь входит косматое, с огненной гривой чудовище, и лютый гнев начинает хлестать, как кровь из разорванной аорты.
– Ты думаешь, ты президент? Думаешь, мир видит в тебе президента? Ты – дутыш, тряпичная кукла, манекен, восковая фигура! Ты фальшивая купюра, подсадная утка, моя маска, моя перчатка, мой носовой платок! Я сморкаюсь в тебя, а ты терпишь! Уроню тебя, и никто не подберет! Ты интересен миру, как дурацкий клоун, как карикатура на власть. В русскую историю ты войдешь как жалкий скоморох, опошливший само понятие власти, ее тайну, ее священную сущность! Поколения русских людей будут смеяться над тобой, и ты будешь отвратительней Лжедмитрия!
Чегоданов оскорблял Стоцкого, прилюдно унижал, топтал его гордыню, хотел, чтобы тот взорвался, кинулся на него с кулаками. Но Стоцкий жалко трепетал, лицо становилось смертельно бледным, краснота щек уходила к подбородку, на шею, утекала вниз за ворот рубахи. И эта жалкая униженность, безответная робость распаляли Чегоданова. Косматый гнев бушевал, танцевал в груди, и казалось, во рту, из которого излетали оскорбления, пышет огромная паяльная лампа, жжет и пытает Стоцкого.
– Я слепил тебя из папье-маше! Нарисовал тебе рот и глаза! Из тряпочек сшил тебе костюм! Придумал тебе имя! Ты держишься на моих винтиках, дергаешься на моих веревочках! Вывинчу винтик, разорву веревочку, и ты рассыплешься на лоскуточки и щепочки! Ты меня слышишь? Ты не президент, а бумажка! Ты слышишь меня, бумажка?
Чегоданов хохотал, кричал, топал ногами, надвигался на Стоцкого, и все, кто был в кабинете, отпрянули, забились в углы. Смотрели, как за спиной Чегоданова на белой стене проступает красная клякса. Отпечаток убитого баррикадника, расплющенного выстрелом танка. Чегоданов уставился на ужасный оттиск, испытывая смертельную немощь, опустошенность, словно косматое существо оставило его, унеся все душевные силы. Он был рыбой, из которой вынули внутренности и которая вяло колыхалась в воде.
– Прости, – едва слышно пролепетал, обращаясь к Стоцкому. – Это не я. Это бес в меня вселился.
Все покидали кабинет. Режиссер Купатов выронил трубку, и она осталась лежать на полу, источая голубой дымок.
– Останься, – сказал Чегоданов Кларе, беря ее за руку. Смотрел, как меркнет сочное пятно на стене.
ГЛАВА 3
В соседней с кабинетом комнате Чегоданов лежал на диване, а Клара сидела у него в головах и чуткими пальцами водила по его лбу, бровям, переносице, гладила темя, массировала, сдавливала. Словно лепила ему другое лицо, рисовала неведомые знаки и письмена. Чегоданов замер от этих нежных настойчивых прикосновений. Был весь в ее власти, отрекался от собственной воли, избавлялся от мучительных раздумий, подозрений и страхов. Эта прелестная восточная женщина с низким бархатным голосом, душистыми волосами, мерцающими полузакрытыми глазами таинственно и неслышно овладела им. Окружила своими предсказаниями, гороскопами, начертаниями звезд и планет. Своим жемчужным лицом, переливами удлиненных глаз, загадочными стихами, взятыми из неведомых рукописей и пергаментов. Она казалась древней жрицей, хранительницей заповедных знаний, явилась к нему из ночного звездного неба, из юношеских волшебных мечтаний.
Теперь она гладила его лоб, словно разгребала тяжкие темные ворохи недавних огорчений. Так разгребают груды опавшей листвы, отыскивая под ними уцелевший цветок. Так перелистывают полуистлевшие блеклые страницы, внезапно открывая драгоценную буквицу.
И не было черной клокочущей площади, ненавидящих насмешливых лиц, яростных глаз Градобоева, нелепой трубки Купатова, жестоких губ телохранителя Божка, предательского лика президента Стоцкого. А была та чудесная опушка и куст чертополоха с пучком сухого соцветия, из которого теплый ветер вырывал летучие семена. И они, как прозрачные лучистые звезды с крохотной сердцевиной, летели по ветру. И он, мальчик, бежал за летучим семечком сквозь заросли желтой пижмы, сквозь розовые лесные герани, распугивая бабочек, сбивая с соцветий бронзовых жуков. Желал догнать это семечко, рассмотреть крохотное темное ядрышко, в котором, по словам его деревенской бабушки, находился образок Богородицы. Семечко взмыло, вспыхнуло на солнце и кануло, а он остался стоять с ощущением неразгаданной тайны, в предчувствии своей будущей загадочной жизни. Знал, что запомнит это мгновение, сбережет до последних дней эту восхитительную сладость и боль.
– Колдунья, – Чегоданов вернулся в явь из чудесного обморока, – что ты мне нагадаешь? Что говорят твои звезды? Что показывают твои карты? Неужели мое время прошло? Меня обожали, передо мною заискивали, моим именем называли детей, обо мне слагали песни, девушки мечтали родить от меня ребенка. Я выиграл войну, усмирив чеченцев. Я сохранил страну, от которой стали отваливаться Поволжье, Урал и Приморье. Я накормил народ, посадил его на иномарки, создал этот сытый, нарядный, свободный средний класс, который теперь выходит на площадь и хочет меня повесить. Моя популярность утекает сквозь невидимую течь, и скоро я уподоблюсь моему предшественнику, в которого плевали, как в мусорную урну. Не понимаю, что случилось. Неужели я проиграю выборы и этот выскочка Градобоев отнимет у меня приверженность народа?
Чегоданов завел руки за голову, коснулся шелковистого платья, провел ладонью по круглому колену, касаясь теплого тела. Это тело было желанным, послушным, принадлежало ему среди вероломного, лживого мира, служило утешением и отрадой.
– Ты победишь, мой любимый. Как всегда побеждал, потому что имя твое – Победитель. Все звезды говорят о твоей победе. Тебя охраняют Уран и Марс, а Юпитер ведет тебя к триумфу. Ты – космический цветок, который приплыл из Космоса, чтобы преобразить землю, спасти ее от иссушающих засух и беспощадных пожаров, от кровавых смут и разрушительных войн. Ты – цветок, с которого опадают серебряные лепестки и появляются золотые. Такие цветы вырастают раз в тысячу лет в саду небесного фараона. И за такими цветками ухаживают волшебные садовницы и небесные жрицы. Я твоя садовница и жрица. Вдыхаю твой аромат, целую твои золотые лепестки…
Все это Клара говорила низким бархатным голосом, нараспев, словно читала письмена, начертанные на пергаменте. У Чегоданова туманились глаза, и он опять погружался в сладкий обморок.
– Может быть, Господь от меня отвернулся? Может быть, я не угадал его замысел и действовал против Его воли? Может быть, Господь нашел другого, кто выполнит Его волю? Может быть, мне нужно смириться и уступить?
– Ты мой червовый король, увенчанный победной порфирой. И рядом с тобой волшебная дама треф, ведущая тебя в золотой дворец. А твой соперник – бубновый валет, и бубновая дама держит его за руку и ведет в черную бездну. Жемчужная змея и коралловый дракон меняют кожу, отсюда твои сомнения. Ты вернешься в золотой дворец, окруженный алой стеной, и на каждом зубце этой алой стены восседает дух, охраняющий твою Победу. Твоя судьба связана с Божественной тайной. Тебе предначертаны великие деяния, о которых говорят звезды и карты. Мои гадания сулят тебе триумфальное будущее.
Ее бархатный голос завораживал. Ее шелковые пальцы летали над его лицом, и от них оставалось свечение, словно в воздухе трепетала золотая пыльца. Чегоданов грезил наяву, испытывал к ней благодарность, безграничное доверие. Среди коварных льстецов, верноподданных глупцов, затаившихся врагов и обманщиков она была единственная, кто чувствовал его страхи, тайные вожделения, необоримое стремление к власти и робкую тоскливую немощь.
– Ты права, я чувствую свою избранность, чувствую над собой длань Божью. У меня бывают видения, бывают указания свыше, уберегающие меня от гибели. Но я не могу угадать, чего от меня хочет Творец. За что Он дал мне власть над страной, которой раньше правили великие цари и вожди.
– Ты слушай Вселенную, и найдешь ответ. Ответ в древесной коре, в крыле синей сойки, в блеянии овцы, в слезах святого старца.
Ее тонкий палец чертил у него на лбу таинственные вензеля, невидимые овалы и кольца. Словно солнце играло на воде, погружая в дремотную память золотые иероглифы. И в памяти загорались видения, вызванные ее вещими прикосновениями.
– Было дерево, из которого явилось знамение, – говорил он чуть слышно, погруженный в наркотический сон. – Тогда, в Германии, где я служил офицером разведки. Уже все завершалось, все рушилось. Была сломана Берлинская стена, и западные и восточные немцы братались на берегу Шпрее, у моста с золотыми валькириями. Уже в панике покидала Германию Западная группа войск, на эшелоны грузили танки, бросали амуницию, склады. Армия, которая должна была пройти за три дня до Пиренеев, пробить насквозь Апеннины, теперь отступала под свисты и улюлюканье. Я понимал, что все было кончено. Приехал в Потсдам, где у меня была встреча с офицером Штази. Я видел в его глазах молчаливый укор, обвинение в предательстве, и это было невыносимо. После встречи я отправился в Сан-Суси, в сырой весенний парк с желтевшими сквозь голые липы дворцами. Не было ни одного посетителя, была тишина и безлюдье, как будто жизнь покинула эту землю, где царила бесконечная печаль. Я испытывал бессилие, меня мучили больные предчувствия, ощущение близкой неизбежной беды. Я бродил по парку, где из сырой земли пробивались крокусы. Набрел на поваленную старую липу с морщинистой корой. Лег на ствол и, чувствуя запах распиленного дерева, мокрой земли, чуть слышный аромат цветов, заснул, желая укрыться в сон от своих мучительных переживаний. Очнулся, будто кто-то коснулся меня перстом. Не было уныния, а была бодрая радость, восхищение. Я чувствовал, что мир, который на глазах разрушался, освобождает место другому миру, в котором мне уготована великая роль. Начинается мое время, меня ждет триумф. Я обнял поваленную липу и поцеловал его ветхую кору. Так в Потсдаме я услышал голос древесной коры.
Клара гладила его лоб, словно втирала волшебные мази, таинственные эликсиры. Ему казалось, что в память его погружается серебристая спираль, издавая чуть слышный звон.
– Слушай Вселенную, и узнаешь ответ. Ответ на крыле синей сойки. Оно же крыло самолета.
– Верно, верно, было крыло самолета, – отзывался он на ее волхвования. – После Германии, когда рухнул Союз, я не находил себе места. Мыкался без дела, перебивался с хлеба на воду. Меня взял на работу мэр Ленинграда Ягайло, который уже задумал переименовать его в Санкт-Петербург. Это был яркий человек и пустой. Чрезвычайно деятельный и никчемный. Сыпал проектами и планами, и каждый из них был химерой. Я, как мог, помогал ему, снабжал город продовольствием и медикаментами, пополнял бюджет, выполнял его личные поручения, иногда весьма сомнительные и рискованные. Он доверял мне, приглашал к себе в дом. Его жена, взбалмошная и похотливая, уже отхватила квартиру в лучшем доме на Фонтанке, где раньше жил князь Львов. Она скупала бриллианты, изменяла мужу направо и налево, а я сажал к себе на колени их резвую девчушку Паолу, одаривал ее колечками, заморскими часиками, и она души во мне не чаяла. Мэр Ягайло своей никчемной болтливостью, своим бездарным управлением, своими связями с бандитским Петербургом настолько надоел горожанам, что они переизбрали его, а новый губернатор возбудил против него уголовное дело. Ему грозила тюрьма, все от него отвернулись, и он являл собой жалкое зрелище. Я тоже хотел было его бросить, отмыться от репутации его помощника и приверженца. Но офицерская этика не позволила мне это сделать. Я на свои деньги нанял самолет, открыл ему «окно» на границе и вывез в Париж. Сидел у иллюминатора, слушал его никчемный лепет, смотрел на белое крыло самолета и думал, зачем я с ним связался. И вдруг словно кто-то шепнул мне: «Ты поступил по заповеди. Благодетелей не бросают. Ты будешь вознагражден». Крыло самолета дрогнуло, и я испытал радостный испуг. Значит, было крыло самолета!
– Слушай Вселенную, и услышишь ответ в блеянии овцы. – Клара нежно сжимала мочки его ушей, и он чувствовал, как из-под ее пальцев летят бесшумные зарницы, озаряют все недвижное, послушное его воле тело.
– Было блеяние овцы. – Он удивлялся, почему прежде, среди множества событий и поступков, из которых состояла его беспокойная жизнь, он не замечал мгновений, менявших его жизненный путь. Пропускал знамения, через которые открывалось будущее. Зарницы, слетающие с пальцев колдуньи, озаряли эти мгновения. – Я поселил незадачливого мэра в Париже, обеспечив ему достойное содержание. Вернулся в Россию, и меня подхватил вихрь неожиданных перемен. Мне явился могущественный олигарх, имевший огромное влияние на президента. Он и был овцой с блеющим голосом, с узкой, овечьей головой и библейскими глазами под узким лбом, переходящим в желтоватую лысину. Он сказал, что давно наблюдает за мной. Убедился, что я не предаю благодетеля. Что на меня можно положиться, а моя работа в разведке предполагает государственное мышление, столь редкое в эпоху перемен. Он берет меня под свое покровительство и обеспечивает мне стремительную фантастическую карьеру, о вершине которой я не догадываюсь. Все это он говорил, заикаясь, блеющим голосом вещей овцы, и с этой минуты меня словно подхватили невидимые руки, перенося в Администрацию президента, в управление делами, в ФСБ, мое родное заведение, где еще служили мои бывшие начальники. Президент между тем дряхлел, ему отказывало сердце, он стремительно терял популярность. Все говорило, что ему придется отречься от власти. И вот олигарх пригласил меня в свой знаменитый Дом приемов на Новокузнецкой и все тем же блеющим голосом вкрадчивой овцы предложил мне стать президентом. Я помню, как вдруг затуманилось окно, по которому стучал дождь. Как колыхнулось красное вино в хрустальном бокале. Как вдруг расширились и стали лиловыми, словно ночное небо, глаза олигарха. Я почувствовал себя на тонкой струне, натянутой в этом бездонном небе, струна дрожала, я готов был упасть, и кто-то невидимый поддерживал меня на этой зыбкой струне. «Согласен», – почти беззвучно произнес я и услышал в ответ блеяние библейской овцы. Что это значило? Кто поддерживал меня на струне? За что мне дана эта власть? Что меня ждет впереди?
– Слушай Вселенную, и услышишь ответ. Найдешь его в слезах святого старца. – Клара тихо дула ему на лоб, и у него под веками золотилось солнечное поле пшеницы, на которое с неба падал теплый ветер. Раздувал колосья, раздвигал до земли, и открывался крохотный, притаившийся василек, дивный синий цветок, который вырастал из его сердца и в котором пряталась тайна его бытия, загадка его появления на свет, неразгаданный смысл его судьбы.
– После того как я разгромил Масхадова, и прилетел в Грозный на боевом самолете, и стал любимцем народа и непревзойденным лидером России, я все чаще задавался вопросом: за что мне такое? Почему судьба выбрала именно меня? И я решил отправиться к чудесному старцу Иоанну Крестьянкину, который проживал в келье Псково-Печерского монастыря. Монастырь был прекрасен, на дне глубокого оврага, окруженный крепостной стеной, с множеством голубых и золотых куполов, которые напоминали чашки сервиза. Меня привели в келью. Старец был немощен, с белой, легкой, как пух, бородой. Едва сидел в потертом креслице. Я подошел под благословение, поцеловал его холодную, костлявую руку. Спросил, что мне готовит судьба. Что должен я совершить, став правителем России. Старец молчал, мигал голубыми глазками, а потом вдруг заплакал, притянул мою голову и поцеловал в лоб. Так до сих пор и не знаю, что он угадал про меня.
Чегоданов поднялся с дивана, обожженный воспоминанием, словно до сих пор на лице горели слезы старца.
– В чем моя ошибка? Где я просчитался? Я создал миллиардеров, дав им на откуп русскую нефть, русский лес и алмазы, а они изменили мне, финансируют эту свирепую площадь и этого выскочку Градобоева. Я создал этот средний класс, одел в норковые шубы, посадил на дорогие машины, поселил в престижные особняки, а они ненавидят меня, требуют моего свержения. Эта девчонка Паола Ягайло, дочь петербургского мэра, которая сидела у меня на коленях и которую я опекал, сделал звездой шоу-бизнеса, – она проклинает меня. В чем я ошибся?
– Тебе нужен не вещий старец, а верный друг и советчик. – Клара откинула свои черные стеклянные волосы, открыв белоснежную шею.
– Они называют меня вором. Ищут мои счета в банках Гонконга и Цюриха. Считают число построенных мною дворцов. Но разве они знают, что все эти накопления составляют мой тайный фонд, который я потрачу в момент национальной беды, верну народу в час несчастья? В моих дворцах будут жить сироты и инвалиды войны, которую придется пережить России. Разве они знают об этом?
– Тебе нужен верный друг и советчик, который тебе поможет.
– Сейчас они бушуют на площади, совещаются с американским послом, ездят за границу за деньгами и консультациями. Но если они придут к власти, Россию рассекут на несколько частей и отдадут под эгиду иностранных корпораций и банков. Россию лишат ядерного оружия, уничтожат все ракеты, и навсегда исчезнет свободный русский народ и страна под именем Россия. Они этого хотят, сбесившиеся клерки и шоумены?
– Рядом с тобой должен быть друг и советчик, способный разгадать политический ребус. Узел затянут, но не время его рубить. Его еще можно распутать.
– Кто этот друг и советчик? Может быть, напыщенный, как индюк, режиссер со своей фальшивой сталинской трубкой? Или полицейский, который тайно, пять раз в день, опускается на молитвенный коврик? Или преданный, верный шулер, ловко считающий фальшивые голоса в урнах с двойным дном? Ты же видишь, что кругом предатели и тупицы. Где тот друг и советник?