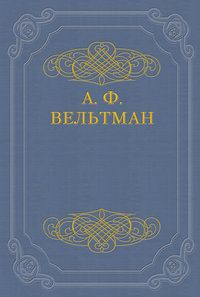
Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Владимира
На реке ожидала уже Владимира Княжеская ладья красная, золоченая, с небом паволочитым и стягом Новогородским, на котором с одной стороны был изображен Пард и две звезды, с другой – лик Святого Витязя с тремя стрелами в одной руке и с рогом в другой.
При громах славы, песни хвалебной Владимир спустился в ладью; сорок вёсельников в лад закинули веслы, пригнулись вперед, могучими руками вспенили Волхов, и ладья, как стрела, спущенная из лука, перенеслась с Торжинского полу на он пол. От пристани до хороми бога света путь был устлан красным сукном; народ кипел по обе стороны.
Слуги хоромные подвели Князю Белого божьего коня и повели под узды к храму, огражденному святым рощеньем и дубовым тыном. За храмом был темный луг, и ветер шумел по вершинам столетних священных дубов; над преддверием возвышалась круглая башня, на вершине которой звонарь ударял в било.
У входа встретил Владимира Вещий старый[6] владыко и Божерок, в гловуке высоком, красном, повитом белою пеленою до земли, с жезлом змийным в руке, полы сорочицы, покладенной жемчугом, несли отроки юные; жрецы и слуги хоромные вышли со свещами и темьяном.
Спевальщики хоромные затянули громогласно:
Иди, Княже Светославич, в домов бога,В домов бога великого, в хором бога света!У того венец золотный, слава мира,Слава мира, речи грозы, грозы-громоносцы!Помолися, Светославич, божью лику,Лику солнца, лику свету, всесветному оку!Упестрит Княжую ризу полем звездным,Полем звездным, узорочьем, – опояшет властью!Ухитрит Княжую душу на ум-разум,На ум-разум и на слово, слово мед изустный!Он усилует советом, беспечальем,Беспечальем, дружелюбьем, благой благодатью!Раздерет покровы вражьи черным горемИ нашлет на них туман, туман и омрак!Мир ти, боже, мир ти, Княже, мир ти, друже!Слава вящшим, слава людем, людем Новгородским!«А со мною любовь возьми вовеки!»
– раздалось из внутренности храма, и все утихло.
«И красное и сладкое пребудет жизнию твоею, и будет слово мое цельба тебе!»
– раздалось еще громогласнее.
После привета Князю и поклона Вещий владыко принял дары Владимировы и внес во храм. Мужи Княжеские передали слугам хоромным златую великую лохань, пещренную хитрым делом и каменьями, ларец с драгоценными манатьями и ризами, два блюда с златницами Греческими.
Храм Волоса не представлял ничего роскошного снаружи: это было огромное четвероугольное здание, построенное из столетних дубов, почерневших от времени и обросших мохом; крутая крыша походила на темный луг; вокруг здания были двойные сени с навесами, верхние и нижние.
Под самой кровлей были волоковые продолговатые окны, сквозь которые, с верхних сеней, дозволялось женщинам смотреть на совершение обрядов во внутренности храма; ибо женщины не имели права входить в оный.
За храмом был пруд, осененный высокими липами, а за прудом палаты Владыки с горницами и выходцами и избы жрецов и слуг хоромных.
Не красуясь наружностью, храм Новгородский славился богатством от взносов и от доходов волостных.
Никто не помнил, когда его построили. Носилось поверье, что это тот же самый храм, который построен Финнами и про который колдунья Финская пророчила, что это «последний храм болвана и другого уже не будет – и сгинет вера в болванство, когда кровля Божницы обратится в тучное пастбище, а с восточной стороны выпадет бревно».
Долго не верили Новгородцы этой молве, но, когда уже пришел храм в ветхость и покрылся мохом, поверье более и более распространялось, страшило народ. Однажды, во время праздника Веснянок, вдруг задняя стена крякнула, и решили на Вече строить новый храм. Начали строить, поставили кровлю; но в одну ночь поднялась гроза, громовая стрела ударила в строение, спалила его. Пророчеству Финской колдуньи поверили вполне. Вещий владыко требовал от Веча начать снова работу, но увечанья не положили, по случаю начавшихся раздоров с Полоцким Конунгом Рогвольдом, принудивших Новгородцев просить себе Князя и помощи у Светослава.
Когда Владимир вступил в Божницу, глаза его были омрачены лучами светочей. Под сквозным литым медяным капищем, на высоком стояле, под небом, осыпанным светлыми камнями, обведенным золотой бахромчатой полой с тяжкими кистями, воздымался на златом столе древний боже Волос. Лик его из слоновой кости почернел с незапамятного времени; на голове его был золотой венец, вокруг головы звезды; в одной руке жезл, в другой стрелы; покров из цветной ткани лежал на плечах и, опадая вниз бесчисленными складками, расстилался по подножию. По правую сторону капища стоял стяг Владычен, а перед хитрыми узорчатыми вратами капища стоял Обетный жертвенник; подле, на малом стояле, жертвенная чаша; влево был стол Княжеский с кровлею, вправо стол Вещего владыки. Подле стен, с обеих сторон, на высоких стоялах два небольших божича, оставшихся после Финнов в храме; один из них был золотой, и говорили, что это золотая баба, матерь стоявшего напротив божича Чура, которого люди называли Врагом. У задней стены стоял поставец с посудой жрической: боковые стены были увешаны дарами, золотыми и серебряными кольцами, ожерельями и изображениями различных членов тела, которые, по обещанию, жертвовались во время болезней: болит рука, приносят в жертву серебряное подобие руки; болит нога, подобие ноги.
Едва Владимир занял свое место, раздался звук трещал и колокола, потом шумный хор – однозвучное, мрачное, протяжное пение, Вещий подошел к жертвеннику, взял рог от подножия Волоса и влил часть вина в чашу. Между тем принесли на одном блюде жрический нож, на другом, под белым покрывалом, агнца; печальное блеяние его раздавалось по храму и сливалось с звуками мрачного пения; агнца положили на камень жертвенный; Вещий взял нож, произнес какие-то слова, и кровь из бедного агнца полилась в чашу, в чаше вскипело, поднялся густой пар.
«Благо, благо тебе!» – запел хор.
Владимир отвратил взоры от обета, обвел ими по высоте храма, и очи его, как прикованные, остановились на одном женском лице, которое выдалось в волоковое окно в вершине храма. Владимир забыл, где он, не обращал внимания на обряд; но стоявший подле него Добрыня благоговейно смотрел, как Жрец поверял каждую часть внутренности агнца и клал на жаровню жертвенника окровавленными руками.
Когда все части разложены были на решетку жертвенника, Вещий взял снова рог, полил жертву, и она обдалась вспыхнувшим синим пламенем.
«Благо, благо тебе! суд и правда наша!» – загремел хор; затрещали трещотки, на Вече ударил колокол, вокруг храма загрохотал голос народа, храм потрясся до основания… вдруг с восточной стороны храма раздался треск, подобный разрыву векового дерева от громового удара.
Все смолкло; онемели возглашающие уста, обмерли члены, издающие звуки, только протяжный гул вечевого колокола дрожал еще в воздухе.
– Горе, увы нам! – произнес беловласый Божерок и трепетно принял трости волхования, раскинул их по ковру, смотрел на них и произносил: – Обновится светило, светом пожрет древо, растопит злато, расточит прахом камение… – Княже, клянися Светом хранить закон его, быть оградою, щитом, мечом и помочьем его, пагубой другой веры! – произнес он, почерпнув златым ковшом из чаши жертвенной и поднося Владимиру.
– Не я щит ему! Он мне щит! – отвечал Владимир.
– Вкуси от жертвы, испей от пития его и помятуй: «оже ел от брашны его и пил питие господина твоего».
Владимир прикоснулся устами к ковшу, Добрыня испил, вящшие мужи пили ковшами, а народ, взбросив руки на воздух, ловил капли, летевшие с кропила, и, обрызганный кровью, собирал ее устами.
Между тем юный Князь снова поднял очи на волоковое окно. Новогородские девы вообще славились красотою; но эта дева – в повязке, шитой жемчугом по золотой ткани, в поднизи низанной, под которою светлые очи как будто думали любовную думу, – эта дева была лучше всех земных радостей.
Владимир едва заметил, как подали ему Княжеский костыль и Княжескую Новгородскую шапку; с трудом отвел он взоры от лика девы, когда с громогласным хором подводили его под руки к лику Света; он поклонился в пояс и пошел со вздохом из храма на Вече к людям Новгородским.
Обходя храм, он искал чего-то в толпах женщин, которыми были покрыты верхние сени; но видел только старух и отживших весну свою. Их лица были похожи на машкару, на болванов, обложенных золотою парчою, жемчугом, бисером и дорогими разноцветными каменьями; это были вороны-вещуньи, сороки-трещотки, ворожеи да свахи; они заслонили тучными телесами своими и распашными кофтами жертв своего гаданья и сватанья, у которых на устах были соты, на щеках заря, в очах светилы небесные – источники любви.
– О, то Княже! – говорили старые вещуньи.
– Доброликой, добросанный, смерен сердцем…
– О, то вуй його Добрыня чреватый, ус словно кота серого, заморского, чуп длинный… ээ! оть… сюда уставился молодой Княж… кланяйтесь, бабы!
– Милостивая! не опора тебе далась! молода еще в передку быти! проживи с маткино!
– Ой, Лугошна, красен Княж!.. то бы ему невесту!.. а у стараго Посадника Зубця Семьюновиця дщерь девка-отроковиця вельми добра; изволил бы взять Княгинею: любочестива, румяна, радостива, боголюбица!
Звук вечевого колокола заглушил речи людские; Князь приблизился к Вечу.
Вече было за храмом Волосовым, на том самом холме, где некогда был Немд, учрежденный Одином, Посредине огромный камень, на котором восседал Конг, кругом камни меньший, которые занимались Диарами, Дроттарами и Блотадами. Сюда сбирались и Новгородцы сдумать и увечать; средний камень прозвали они столом посадничим. Подле холма, осененного высокими деревами, была вечевая звонница, на которой висел огромный колокол.
Для Князя посадничий стол устилали ковром, клалась на него красная подушка с золотыми кистями; а над сиденьем стояло небо.
Когда Владимир, поклонясь на все четыре стороны, занял место, а кругом его сели Добрыня и старые Посадники Новгородские, – мужи Владимировы принесли подносы с дарами; Добрыня встал и раздал Новгородским людям от имени Князя злато, дары иные многие и милость его.
«Кланяем ти ся, Княже!» – закричал народ; «Кланяем ти ся, Княже, землею и водою Новгородскою! и меч приимь на защиту нашу!» – произнесли Выборные Старосты Новгородские, поднося Владимиру на латках серебряных землю, и воду, и меч Княжеский Великий.
«Изволением властного Бога-Света, Владыко, и Посадники Новгородскыи, и Тысящники, и все Старейший, и Думцы Веча Господину Князю Володимиру от всего Новагорода. На сем, Княже, целуй печать властного бога, на сем целовали и прежний, а Новгород держати по старине, како то пошло от дед и отец наших; а мы ти ся, Господине Княже, кланяем».
Владимир встал с места, поклонился на все стороны, поцеловал поднесенную к нему на блюде печать златую на цепи, надел ее на себя, принял меч, опоясал его.
Голос народа загремел.
Подвели Владимиру могучего коня, покрытого золотым ковром; седло, как пристолец Княжеский, горело светлыми камнями; другого коня подвели дяде его Добрыне.
Стяг Новогородский двинулся; за ним шел Князь с вящшими своими мужами, потом Дума Новогородская, Посадники, Тысяцкие, Воеводы, Конечные Старосты, Головы полковые, Гридни и Полчаны Княжие, Рынды, Сотня гостиная, купцы и люди жилые Новгородские…
Народ потянулся вслед за поездом в двор Княжеский.
Гул вечевого колокола расстилался как туман по озеру и окрестностям.
– О! той хитрый, близок! – говорил народ на другой день, сидя за браными столами на дворе Княжеском. Добрыня потчевал его от имени Князя и хлебом, и хмелем, и золотом.
– Ой, щедрый, лихо из чужой бочки вино точить… купайся! а в своем меду, чай, окунуться не даст!
– Уж бы звали, так, а то кто его звал!
– То так! Дай улита рожка, а она оба два! да Новугороду не две головы.
– Эх, молодцы! великой звезде не без хобота.
– Звезда с хоботом недоброе знаменье! нам подавай солнце красное!
– Что ж, братцы, Володимер Солнце Красное! смотри, смотри – вот он.
– И то! кликнем: Государь Князь Володимер Красное Солнышко!
– Величай!
И все повторили:
– Здравствуй, Государь Князь Володимер Красное Солнышко!
IV
Между тем как в Новгороде шли дела людские добром, на берегах Днепровских творились чудеса.
На берегу Днепровском, близ Киева, по соседству с Чертовым бережищем, жил дядя Мокош.
Есть же на белом свете люди, которые ни сами ни во что не мешаются, ни судьба не мешается в их дела. Ни добрые, ни злые духи не трогают их, как существ ненужных ни раю, ни аду. Эти люди никому не опасны, никого не сердят, никого не веселят, никого не боятся, ни на кого не жалуются; им везде хорошо; есть они, нет их – все равно.
Из таких-то людей был Мокош, сторож заветных Княжеских лугов и лесничий.
С молодых лет жил он в хижине близ Чертова бережища, не заботясь о соседстве Нечистой силы. Зато весь народ Киевский думал, что сам он водится с нею. Когда, раз в год, приходил Мокош в Княжескую житницу за мукою на хлебы, его допрашивали: «Что деется на Чертовой усадьбе?» – «Не ведаю», – отвечал он. «Что деет Нечистая сила?» – «Живет себе смирно».
Ни слова более нельзя было добиться от Мокоша.
Про него можно было сказать: лесом шел, а дров не видал.
Жил Мокош уединенно с своим задушевным псом Мурым. Вместе с ним, каждый день, рано поутру, обходил он луга и лес. От нечего делать на лугах полол крапиву, в лесу собирал валежник. И должно было отдать ему справедливость, что луга были как бархатные, а лес чистехонек; только в одном месте, на скате холма, во впадине горы, под навесистыми липами, с давнего времени заметил он, что кто-то мешается не в свое дело и содержит это место в отличном порядке и чистоте.
Долго подозревал он, что кто-нибудь без спросу поселился в этом месте; приходил он тайком, но никого не заставал; а на травке ни листика завялого, ни сучочка, а на дереве ни червячка, ни паутинки. Иногда только казалось ему, что по лугу как будто вихрь ходит, да подметает пыль, и полет сухую траву, и обрывает завялые листья. Мокош, уверенный, что точно никого нет, забыл свои подозрения; и если б народ своими допросами про Нечистую силу, которая живет на холме, не напоминал ему об этом, он не знал бы никогда, что такое и Нечистая сила. У него все было чисто: и луга, и лес, и источник, из которого пил воду, и мука, из которой пек хлебы, и мысли его, и руки, и душа.
Уединение Мокоша нарушалось только несколько раз в году, во время Княжеской охоты, когда на заветном лугу выпускали соколов с челигами на ловлю птиц.
Однажды Мокош встал, по обыкновению, с солнцем, умылся ключевой водою, поклонился земно на восток, съел кусок хлеба с молоком и отправился в обход лугов и леса. Кончив свое дело, он пробрался скатом Днепровского берега к заветному холму, сел во впадине на мягкую мураву и стал глазеть на темный правый берег реки. Необозримая даль покрыта была густым лесом; инде только желтели песчаные холмы и курилось далекое селение. Влево, на высоте, расстилался Киев-град, с белокаменными палатами, вышками, теремами и бойницами.
Мокош на все смотрел; но для него все равно было, смотреть или нет: не в первый раз он видел издали и Киев, и Днепр, и темный правый берег его. Он ни о чем не думал, не рассуждал; и о чем бы стал он думать?.. Единообразие жизни есть бесплодное поле, на котором не родится мысль.
Итак, Мокош был в этом состоянии, непонятном для мира, исполненного жизни, борьбы добра и зла. Вдруг слышит он плач младенца, вскакивает, идет на голос, приближается ко впадине, осененной навесом лип, и видит, на одной из ветвей дерева висит колыбелка, а в ней лежит спеленатое дитя. Колыбелка качается, дитя плачет, шевелит устами, просит груди. Вдали эхо вторит чью-то колыбельную песню; но подле бедного дитяти нет мамы, нет няни, нет кормилицы.
Жалко стало Мокошу; подходит он ближе… вдруг колыбелка перестала качаться, эхо колыбельной песни утихло, свивальник развертывается, пеленки вскрываются, никого не видно, а кто-то вынимает ребенка; он утих, он лежит на воздухе, во что-то вцепился ручонками и к чему-то тянется, что-то рвет устами, кажется, сосет, слышно, как он глотает…
Дивится Мокош, разинул рот.
Невидимые руки пестуют дитя; оно повеселело, улыбается, бросает на все любопытные взоры; увидело Мокоша, тянется к нему.
Мокош не вытерпел, приближается, протягивает к ребенку руки, хочет взять его… а длинная ветвь орешника хлысть его по рукам.
– Погори ты пожаром! не уродись на тебе шишки еловой! – вскричал Мокош… а ребенок хохочет, опять тянется к Мокошу. Опять Мокош протягивает руки, а ветвь орешника опять хлысть его по рукам, а другая хлоп по лицу.
– О-о-о! бесова клюка! – кричит Мокош, протирая глаза, из которых искры сыплются… а ребенок смеется, тянется к нему снова.
– Провались ты, вражий сын! – произнес Мокош и побрел домой, повалился на лавку, спит.
А под крутыми берегами извивается Днепр, шипят его волны. Давно вытек Днепр из темных лесов Смоленских, из соседства Двины и Волги, пробился сквозь каменные ограды земли Половецкой, скатился по десяти гранитным ступеням и ринулся в море.
Извивается Днепр, шипят его волны около берегов Киевских. Днепровский Омут выгнал на работу все царство отводить реку от священного холма, рыть новое русло.
Извивается Днепр, шипят его волны, а солнце играет в нем, а Киевские златые терема опрокинулись в него и мерцают в волнах.
Просыпается Мокош. Вчерашний день всегда был для него сном; но чудный ребенок на холме нейдет у него из головы.
«Дивен сон!» – думает Мокош и, кончив свой завтрак, отправляется в обход лугов и леса, идет опять мимо холма, садится отдохнуть. Глядь… а мальчик лет пяти, в красной сорочке, обшитой золотой тесьмою, в сафьянных сапожках, шитых узорами и выложенных бисером, бегает один-одинехонек и ловит мотыльков; много их вьется над ним, но он ловит изумрудного, осыпанного искрами золотыми, у которого крылья как будто обложены полосами радуги.
Увидев Мокоша, мальчик бежит к нему навстречу, берет его за руку.
– А!.. кто ты таков? – говорит ему.
– Да дедушко Мокош, – отвечает ему Мокош, выпучив на него глаза.
– А моего дедушку зовут Он! – вскричал мальчик. – Ну, и ты будь моим дедушкой!.. А можно уловить мотылька?
– Лови, голубчик! – отвечает Мокош.
– Она не велит… говорит, что это красная девушка; говорит, что я сотру с ее лика румянчик.
– Твоя бабушка обмолвилась. А где твоя бабушка?
– Где бабушка? Постой, я приведу ее к тебе. Мальчик побежал под навес липы, в кустарник. «Ау! ау!» – закричал он. «Ау!» – отозвалось в лесу.
– Чу! Она ушла в лес. Пойдем, поищем ее!
Он взял Мокоша за руку и повел в лес.
«Ау!» – снова закричал мальчик. «Ау!» – повторилось в лесу.
– Чу! пойдем, пойдем; вот здесь Она… Ох, нет, вот там!..
Мокош устал ходить за торопливым мальчиком.
«Ау!» – отзывалось то с одной, то с другой стороны. «Ау!» – закричал мальчик опять. «Ау!» – раздалось позади них.
– Эх! Она воротилась домой.
Пошли назад. Пришли на лужайку, под липы.
– Нет и дома, – произнес мальчик печально.
– Да где твой дом? веди домой.
– Вот здесь, дедушка, под липкой.
«Сирота, – подумал Мокош. – А в хмару да в ливень?»
– Под липкой, дедушка.
«А в зиму да в метелицу?»
– Под липкой…
– Сирота!.. – повторил Мокош. – У тебя, чай, рученьки да ноженьки отморожены.
– Тепло, дедушка, под липкой; на эту лужайку я не выхожу; как пойдет черная хмара по небу да нанесет холоду, я сижу дома; боюсь выйти из-под липки: так и колет лицо, так и жжет.
– Откуда ты, голубчик, взял такую шапочку с обложкой горностаевой, словно Княжеская, да сорочку, шитую золотом, да сафьянные сапожки?
– Все мне приносит Он; ты видел моего дедушку?
– Какого дедушку?
– А вот что говорит: без меня бы ни песен, ни радости людям. А видал ли ты, как пляшут да водят хороводы? Вьются, вьются, заплетаются, девушки бледные, бледные!.. Запоют так: у-у-у-у!.. а мне так и холодно, как от белой зимы, что бывает за нашей лужайкой.
– Да каков дедушка твой собой?
– Каков? не таков, как ты; все исподлобья смотрит, на людях покойных ездит верхом. Все его боятся, а дедушка никого, – только боится кочета, что залетел из Киева; а я спросил его: «Чего ты боишься кочетка? Видишь, я не боюсь…» А Он сказал: «Гони, гони его, покуда не закричал!» Я и прогнал!..
Мокош внимательно слушал рассказ ребенка, присел на лужайку и стал полдничать, вынув из кошеля кусок житного хлеба.
– Что это, дедушка? – вскричал мальчик. – Дай-ка мне!
Мокош отломил кусок: с жадностью мальчик схватил и съел.
– Ты голоден, голубчик, тебе поесть не дадут!.. вот тебе еще ломоток хлебца.
– Хлебца? – вскрикнул мальчик. – Она не дает мне хлебца.
Чем же ты питаешься, голубчик?
– Она меня кормит…
Вихрь свистнул между мальчиком и Мокошем и унес слова мальчика.
– Ась? – спросил Мокош, не расслышав, чем кормят мальчика.
– А поит… – продолжал мальчик.
Вихрь опять свистнул над ухом Мокоша; он не слыхал чем поят мальчика.
– Ась? – повторил он.
– Да, дедушка, – продолжал мальчик, – а мне тошно, тошно, как я съем… – Снова свистнул вихрь… – Все хочется этого хлебца да водицы испить, что течет под горой… У тебя много хлебца?
– Есть мало, – отвечал Мокош.
– Пойду я, дедушка, к тебе; ты такой добрый, ты меня пустишь гулять в город!
– Пойдем, пойдем… я поведу тебя в Киев, – отвечал Мокош, вставая.
Мальчик хочет идти – и вдруг остановился.
– А!.. – вот Она!.. Пусти меня к этому дедушке!.. пусти!
Мокош смотрел вокруг себя: с кем говорит мальчик?.. но никого нет… только вихрь свистал снова между Мокошем и мальчиком. Мокош хотел подойти к нему а ветвь натянулась и хлестнула его по лицу.
– Ооо! сгинь ты грозницею!! – вскричал Мокош, закрыв лицо руками. – Поточи тебя тля поганая! – продолжал он, удаляясь и проклиная Нечистую силу.
V
Наутро, по обычаю, Мокош снова спустился в обход лесов и заветных Княжеских лугов. Любопытство завлекло его к лужайке. Вот подошел, ступил на свежую мураву, и вдруг стукнулся обо что-то лбом.
«Вражий тын!» – вскричал он. Смотрит… и тычинки нет; хочет идти, ногу вперед – стукнулся снова, нет прохода. Сердится Мокош, шепчет бранные речи, шарит рукой, точно как будто каменная стена перед ним, а нет ничего. Продолжает вести рукой по стене, идет кругом, и стена тянется вокруг лужайки… За стеной чей-то голос.
Прислушивается Мокош, кто-то неведомые речи выговаривает.
Ы-ей-гей-ег-дой-ай-да-егоа, вар-ой-зы-воз-рой-ой-ро-воз-ро, дой-ей-ди-возроды, тай-си-ей-тси-возродытси, дой-рей-ей-dpe-вар-нен-ей-ни-древни, ай-дой-ай-да-ада-мен-ой-мо-ада-мо, чоры-ей-че-лей-ой-ло-чедо-вар-ей-ве-челове-цюй-юн-цю-челоеецю, кыр-нен-ой-кко-вар-ой-во-кмово-жой-ей-жм-зной-нен-ей-зне-жизне…
– Ей, голубчик! кто тут?
– Принес хлебца? – отозвался голос. – Не то не хочу учиться книгам.
– Да где ты тут?.. Ох ты, окаянная огородина!
– А, это ты, добрый дедушка? здорово! забыл ты меня!
Как будто сквозь туман увидел Мокош отрока лет десяти, в красном шелковом кафтанчике, перепоясанном золотым тесемчатым кушаком, с откидными рукавчиками, ноги перетянуты ниже колена также золотыми тесьмами, на ногах сапожки шитые сафьянные, на голове скуфейка, из-под скуфейки рассыпаются по плечам витые русые кудри; в руках отрока длинная книга и жезлик.
– Что ж нейдешь? – спросил отрок.
– Да словно стена стоит?.. аль мерещится?.. – отвечал Мокош, тщетно подаваясь вперед.
– Какая стена! плюнь на нее, дедушка.
Мокош плюнул; вдруг как будто что-то треснуло, рассыпалось вдребезги. Мокош, спотыкаясь, как по груде камней, приблизился к отроку и, взглянув на него, остановился, выпучив глаза.
– Да ты словно тот же, что вчера видел я… а пяди на три вырос!..
– Вчерась? – сказал отрок. – Да ты у меня и невесть с какой поры не был, дедушка.
– Ох, да ты не простой, словно колдун аль чаровник отец твой али баба, не ведаю кто?
– Иди же, дедушка, я рад тебе! – сказал отрок, взяв Мокоша за руку. – Ведь ты обещал мне хлебца, дай же, дедушка, хлебца, а я тебе дам золота, вот того, что люди, говорит Он, все за него покупают, кроме светлого неба.