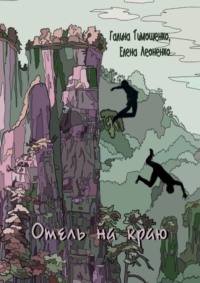
Отель на краю
Перед до отвращения знакомой темно-багровой дверью Мишанин потряс головой, нацепил подобающую улыбку и привычным движением широко распахнул дверь.
– Ромик, ау! – как всегда, с порога жизнерадостно заорал он. – Ты, скотина, меня, конечно, не ждешь, но я все равно пришел! Ты где там?
Собственно говоря, Ромик никогда не откликался, пока Мишанин не входил в комнату. Не откликнулся он и сейчас, но почему-то Мишанина это насторожило. Он не смог бы сказать, что именно было не так, но что-то было точно не так.
Продолжая громогласно вещать что-то, долженствующее звучать крайне жизнеутверждающе, Мишанин быстро пошел по коридору, заранее изгибая шею, чтобы в поле его зрения побыстрее оказалось любимое Ромиково место – диван, чуть ли не до пола продавленный еще его отцом в минуты пребывания в научных далях и высях.
Ромик возник в поле мишанинского зрения даже раньше ожидаемого: в дверном проеме появилась его голова, острым подбородком указывающая на потолок. Потом стало видно тощее тело, которое как-то коряво лежало на диване со свалившейся на пол рукой.
Мишанин издал невразумительный тихий рык и метнулся к дивану, не отводя глаз от бумажно-белого Ромикова лица.
Ему с большим трудом удалось разглядеть, что Ромик все-таки дышит. Тогда он изо всех сил затряс безвольно болтавшиеся плечи и заорал что было сил:
– Ромик! Ромик!!! Что с тобой?! Слышишь, Ромик?
Ромик явно не слышал.
Мишанин начал беспомощно озираться вокруг, и его взгляд упал на захламленный разнообразным барахлом журнальный столик перед диваном.
Поверх кип старых научных журналов, грязных тарелок и смятых одноразовых носовых платков валялось несколько пустых блистеров. Мишанин мгновенно узнал упаковки от одного из сильнейших препаратов для снижения давления и яростно чертыхнулся. Ему показалось, что блистеров было очень много – может, двадцать или даже тридцать.
Он остервенело заметался по комнате. Вот же ирония судьбы: человек, всю свою профессиональную жизнь занимающийся производством лекарств – и, оказывается, понятия не имеет, что надо делать в подобных случаях!
Вдруг его осенило, он снова бросился к дивану, схватил Ромика (какое счастье, что этот идиот всегда был таким ледащим!) и потащил его в ванную. Только потом ему пришло в голову, что можно было бы не тратить времени на перемещение Ромика: не та была, в конце концов, ситуация, чтобы заботиться о сохранности и без того обветшавших ковров и давно рассохшегося пола. Но это было потом, а сейчас он тащил Ромика, как мог, не обращая внимания на то, что Ромикова голова то и дело безвольно стукается о попадающиеся по пути стулья и дверные косяки.
В ванной он снова обругал сам себя: надо же было сообразить хоть стакан с собой захватить! Помнится, рядом с этими чертовыми блистерами стоял стакан с остатками воды… Чем-то же надо в этого придурка воду вливать!
На его счастье, в ванной у Ромика тоже чего только не было: и компьютерные диски, и книги, и куча грязной одежды… Нашлась и изрядно пожившая алюминиевая кружка – наверное, сохранившаяся еще со времен их общей развеселой юности.
Мишанин с невыразимым облегчением схватил кружку, налил в нее воды, раскрыл Ромику рот и начал вливать туда воду, молясь вслух и про себя, чтобы тот в своем бессознательном состоянии умудрился не захлебнуться.
Ему снова повезло: Ромик все-таки начал захлебываться и потому пришел в себя. После этого дело пошло быстрее. Витиевато, с чувством обматерив открывшего глаза Ромика, Мишанин стал уже без всяких опасений вливать в того кружку за кружкой теплую воду. Он по-прежнему не был уверен в том, что действует правильно, но ничего другого ему в голову не приходило. Попутно он ругательски ругал себя за то, что по пути в ванную где-то обронил свой мобильный и даже этого не заметил. Не был бы он таким растяпой – «скорая» уже ехала бы сюда. Да, ехать ей пришлось бы долго: поселок так и не влился в город, и от ближайшей подстанции «скорой» ехать сюда было при самом щадящем положении на дорогах не меньше двадцати минут. Но она бы ехала, мать ее так!!!
Но раз уж растяпой родился – Эйнштейном не станешь, и Мишанин с упорством взбесившегося робота продолжал наполнять кружку и с размаху втыкать ее в рот Ромику.
Наконец Ромик забормотал что-то невразумительное и попытался повернуться к унитазу. Мишанин с восторгом пихнул его в нужную сторону и почти с умилением смотрел, как Ромика выворачивает.
Когда Ромик, весь мокрый и совсем позеленевший, обессиленно откинулся от унитаза и привалился к ближайшей стене, Мишанин заглянул в унитаз. Некоторое количество таблеток там плавало, но на глаз казалось, что это – просто капля в море по сравнению с количеством пустых блистеров на журнальном столике.
Поэтому он неумолимо возобновил процедуру промывания Ромикова желудка, уже без какого-либо трепета понося того на чем свет стоит.
Через полчаса «скорая» была вызвана, а измученный пятью приступами рвоты Ромик, умытый и вытертый, вновь водворен на диван.
Мишанин, весь мокрый – и от пролитой воды, и от холодного пота – сидел на полу напротив Ромика и, свирепо ругаясь себе под нос, пересчитывал дырки от таблеток в блистерах. Выходило, что никаких двадцати и уж тем более тридцати пустых блистеров не было и в помине: их оказалось всего лишь пять, и то не до конца опустошенных. Он никак не мог понять, как ему примерещилось такое безумное количество, а понять это почему-то представлялось чрезвычайно важным.
Ромик лежал молча, бесстрастно следя глазами за мишанинскими пальцами.
Наконец Мишанин решил, что ему уже хватит выдержки на разговор с Ромиком, и он сквозь зубы спросил:
– Ты можешь мне сказать, на хрена? На хрена ты это сделал?
Ромик медленно поднял взгляд и даже набрал было воздуху, чтобы что-то сказать, но так ничего и не сказал.
Мишанин подождал немного, почти с ненавистью глядя в огромные темные глаза Ромика, которые всегда повергали женщин в сладкое томление, и вдруг неожиданно для самого себя заорал (и куда делись его надежды на собственную выдержку?):
– Ты вообще мужик или нет?! Что такого страшного с тобой произошло, что ты третий год сопли жуешь? На тебя же смотреть противно, веришь?
В лице Ромика не шелохнулась ни одна черточка, он даже не моргнул – продолжал без всякого выражения смотреть на Мишанина.
Тот яростно сплюнул, встал и вышел во двор – встречать «скорую».
Потом, когда «скорая» уже увезла Ромика в больницу, предварительно милостиво одобрив мишанинские спасательные действия, он задумался: а чего, собственно говоря, он так разозлился? В принципе, этого следовало ожидать уже давно. Даже странно, что ничего такого Ромик не сотворил раньше. Впрочем, может, он и пытался сотворить, просто у него не получилось…
Ответ на этот вопрос пришел нескоро и обошелся Мишанину весьма недешево, а до той поры он просто отчаянно злился на себя за то, что решил навестить Ромика именно в это день и именно в это время.
Некоторое время ему действительно было не слишком приятно смотреть на себя в зеркало. Разумеется, о своем открытии он никому не сказал, только продолжал исподволь наблюдать за Ромиком – не столько с целью уловить готовность к повторению попытки, сколько из желания понять, рад ли тот, что остался в живых.
Спустя пару месяцев Мишанин пришел к выводу, что никаких особых признаков радости Ромик не проявляет. Конечно, не исключалась возможность, что к этому выводу Мишанин пришел только потому, что хотел прийти именно к нему, но… Ромик ведь тоже не помог ему прийти к какому-нибудь другому!
С этого момента Мишанин стал заходить к Ромику все реже и реже. Отчасти это было связано с тем, что ему стало слишком трудно скрывать от Ромика свое многократно усилившееся раздражение, а отчасти – с тем, что… В общем, он не был уверен в том, что готов всю оставшуюся жизнь вытаскивать Ромика из петли, промывать ему желудок, отнимать у него нож или… Что там еще может прийти в голову человеку, который твердо вознамерился больше не жить?
18 июля
…Раньше она никогда не думала, что воспоминания могут сниться. Без всяких изменений, уточнений, повторений – просто воспоминания. Во сне все оказывается в точности таким, каким было в реальности – и от этого внутри все время живет холодный ужас.
Теперь она видела только такие сны.
Каждый вечер она тянула до последнего, чтобы не укладываться в постель – иногда даже вообще не ложилась. Это не помогало. Одну ночь она еще могла провести на ногах, но следующим вечером ее неизбежно смаривало, сколько бы кофе она ни выпила перед сном.
И здесь каждую ночь ей снова снилось прошлое. Одно только прошлое, больше ничего.
Вчерашнюю ночь она тупо просидела перед черным проемом, и ей даже удалось ни о чем не думать. Помогла луна: ее просто в эту ночь не случилось, поэтому можно было долгие часы напряженно стараться по едва различимым силуэтам распознать то, что находится внизу и на той стороне реки. Поэтому вчера с самого утра она начала бояться приближения ночи. Она понимала, что рано или поздно обязательно заснет, даже если будет стоять столбом посреди отсека. Просто обмякнет и стечет безвольно на дощатый пол, а потом снова придут воспоминания.
Конечно же, все произошло именно так, и ей приснилось то лето, когда они с Артемкой и Ксюхой отдыхали на Красном море. Артемка тогда принял великолепие подводных пейзажей сразу и радостно, а Ксюха поначалу постоянно скандалила. Она голосила на весь пляж:
– Я знаю, я тебе надоела! Но я все равно не хочу купаться! Меня там съедят, я не хочу!
Кругом было полно русских, и она с детьми сразу стала любимым аттракционом всего отеля. Кто-то от души веселился, кто-то честно включался в ее попытки объяснить дочери, что никто ее не съест, а кто-то умудрялся смотреть на ежедневно повторяющееся представление с подозрением.
Целых три дня Ксюхе удавалось своим визгом отбиваться от необходимости войти в море. Наконец ее мать не выдержала, молча сграбастала дочь в охапку и спрыгнула с ней с понтона в воду.
Как только Ксюха оказалась под водой и открыла глаза, все ее страхи в момент исчезли. Разноцветные рыбки во множестве бесстрашно плавали вокруг, и первым делом Ксюха попыталась поделиться с мамой своим восторгом. Тут уж пришлось вытаскивать ее наверх и, пока Ксюха в бешеном нетерпении вертелась винтом, рассказывать ей, чего под водой делать нельзя.
С этого дня Ксюха проводила под водой едва ли не больше времени, чем Артем, и каждый раз, выныривая, вопила на весь пляж:
– Мамочка, там «Детский мир»!
Всю ночь она видела во сне дочерна загорелую Ксюхину мордочку с темно-бордовым носом. Дочка то плюхалась животом прямо в воду и зависала там, выставив наружу круглый вихляющийся от восторга задик, то выныривала с вытаращенными глазищами, то, вереща от нетерпения, ожидала своей очереди прыгать с понтона…
Артем, в полной мере осознававший свой зрелый возраст, вел себя более солидно – и в реальности, и во сне. К тому моменту ему исполнилось уже целых восемь лет, и он, сурово сдвинув брови, сосредоточенно следил за Ксюхой, когда та отходила от него больше чем на полметра. Нырять он позволял себе только тогда, когда сестренка сидела у кромки прибоя и ковырялась в мокром песке или, окончательно умаявшись, дремала под зонтиком после купания. Он уже тогда прекрасно плавал – разумеется, когда был свободен от обязанностей старшего брата, – и мог часами, нисколько не уставая, плавать от понтона к понтону.
Сына она видела во сне именно так – вдали, среди ослепительных солнечных бликов на мелких волнах, когда он, ожесточенно дрыгая ногами, высовывался из воды почти по пояс и радостно махал ей рукой. А еще она видела момент, когда он впервые донырнул до самого дна на большой глубине и притащил ей оттуда большую старую раковину. Раковина была настолько дряхлой, что уже почти не пела, когда ее прикладывали к уху, но потом очень долго жила у них дома на видном месте, как неоспоримое свидетельство Артемкиных особых отношений с морем.
Сон был похож на волшебный фотоальбом, в котором каждая фотография двигалась и даже издавала звуки. Она во сне мучительно старалась закрыть альбом и избавиться от лицезрения непереносимых картин, просыпалась, какое-то время лежала, задыхаясь и яростно утирая слезы, потом снова проваливалась в сон, и все начиналось сначала…
На рассвете ей наконец удалось проснуться окончательно. Какое-то время она металась по отсеку, бормоча себе под нос что-то невнятное, потом немного успокоилась и, привалившись к стене, села у самого края.
Обычно по утрам она сидела так до тех пор, пока сверху, с крыши отсека, не сваливался пакет с едой. Это было одним из немногих развлечений – медленно, изо всех сил тормозя себя, разбирать содержимое пакета, раскладывать аккуратно у стены, которая в ее отсеке играла роль кухонного шкафа.
Чаще всего пакеты с едой появлялись, когда солнце находилось на расстоянии одной ее ладони над горизонтом.
Сначала вдалеке зарождался едва слышный шорох выжженной жарким летом травы.
Потом этот шорох постепенно превращался в пунктирный звук приближающихся шагов.
Потом эти шаги сворачивали к отсеку Эйнштейна, и через пару секунд звук менялся: теперь человек поднимался по скрипучей деревянной лесенке.
Четыре ступеньки. Пауза.
Затем начинался совсем другой скрип: человек, судя по всему, поднимался по лестнице, вертикально закрепленной снаружи на задней стене Эйнштейнова отсека.
Еще шесть ступенек (видимо, довольно высоких) – и человек оказывался на крыше отсека.
Пять шагов по крыше.
Еще восемь-десять секунд – и звук глухого удара пополам с шуршанием пакета, шлепающегося на пол Эйнштейнова отсека.
Потом все то же самое, но в обратном порядке: человек возвращается по крыше отсека, спускается по двум лестницам, делает еще четыре шага по сухой траве, поднимается на четыре ступеньки – теперь уже к ее собственному отсеку, лезет по вертикальной лестнице, тяжело, неспешно шагает по крыше…
Потом шаги замирают прямо у нее над головой. Человек наверху, видимо, усаживается на корточки, свешивает пакет с крыши, слегка раскачивает его, чтобы он упал точно в отсек, а потом сильным броском вбрасывает внутрь.
Сейчас солнце стояло на целых полторы ее ладони выше горизонта, а никаких шагов снаружи слышно не было.
Зато слева зашевелился Эйнштейн.
Она прислушалась: он покрутился на своем матрасе, потом с тихим стуком сбросил ноги на пол. Он почему-то по утрам никогда не ставил ноги тихо: ему обязательно нужно было их сбросить, чтобы пятки увесисто ударили по доскам пола.
Еще через минуту раздались его тихие шаги, лязг отодвигаемой жестяной крышки туалетного бака, мелодичное журчание и снова лязг. Потом шаги в соседнем отсеке двинулись в сторону края.
Она замерла. Отчего-то ей каждое утро казалось, что Эйнштейн идет к краю не просто так – хотя она и сама после своих утренних метаний по отсеку обязательно подходила к краю и надолго усаживалась там. Но когда к краю шел Эйнштейн, у нее всегда замирало сердце. Вроде бы ничего этакого про него известно не было, но сердце все равно замирало.
– Доброе утро, Эйнштейн, – подала она голос.
– Привет, – хмуро отозвался тот. – Что новенького?
Это было его ежедневной шуткой, и она, как и всегда, ответила:
– Солнце встало.
Еще через несколько минут Эйнштейн с досадой осведомился:
– Нас сегодня вообще кормить не собираются?
– Ты надеешься, что он ответит? – очень мягко спросила она.
– На что ответит? – через слишком большую паузу раздраженно буркнул Эйнштейн, и она поняла, что права: он действительно изо всех сил надеется получить хоть какой-то ответ на свое вчерашнее яростное «Зачем?!».
До сих пор Эйнштейн был единственным, с кем ей было не противно общаться. Хотя точнее было бы сказать, что общаться с Эйнштейном ей было приятнее, чем с Фермером. Общаться со Скрипачкой возможности не было, да и не особо хотелось после суток ее почти непрерывной истерики. Фермер же за неделю совместного существования проявил себя приемлемым собеседником только пару-тройку раз – видимо, когда был совершенно трезвым и уже отошедшим от утреннего похмелья.
На этом фоне Эйнштейн выглядел практически Сократом, общение с которым следовало поддерживать всеми усилиями, поэтому она сочла за лучшее промолчать.
Не меньше получаса прошло в молчании. Потом Эйнштейн, неловко усмехаясь, спросил:
– А ты как думаешь, он что-нибудь напишет? В конце концов, мы же до сих пор никогда ничего не спрашивали, только материли его на чем свет стоит…
Ей страшно не хотелось отвечать. Ей вообще не хотелось ничего говорить, потому что за эти полчаса у нее все внутри как-то затихло и не то что бы успокоилось, но хотя бы замерло и перестало корчиться. Но она по дыханию Эйнштейна чувствовала (хотя что она могла чувствовать по его дыханию, если до него было не меньше полутора метров – и то в том случае, если он сидел у ближней к ее отсеку стены?!), как напряженно он ждет ее ответа.
– Не знаю, – в конце концов бесстрастно произнесла она и ощутила волну острого разочарования, хлынувшую из отсека слева.
Снова тишина.
Солнце уже стояло довольно высоко, когда издали донесся шорох травы.
Она услышала, что Эйнштейн в своем отсеке вскочил на ноги.
Снаружи прозвучала вся обязательная мелодия шагов, и в отсек слева шлепнулся пакет.
Впервые за все эти дни она не стала прислушиваться к шагам, двинувшимся в сторону ее отсека, потому что за левой стеной Эйнштейн точно так же впервые не разбирал пакет аккуратно, с деланым безразличием, как обычно, а с сумасшедшим нетерпением раскурочивал его, расшвыривая по сторонам все, что доставал: она просто-таки видела, как разлетаются по полу свертки, бутылки, огурцы, яйца…
За стеной шелестнула торопливо разворачиваемая бумага, и она насторожилась.
Наступила невыносимая пауза, во время которой пакет влетел и в ее отсек, но она не обратила на это никакого внимания.
Наконец она не выдержала:
– Ну что там?
Прозвучал обычный язвительный смешок, и Эйнштейн с издевательской торжественностью произнес:
– «Есть зачем». Представляешь?! Оказывается, есть зачем!
Судя по донесшимся из его отсека звукам, он прошагал в сторону матраса, пиная ногами попадавшиеся ему по пути свертки, и обрушился в своем спальном углу.
Она немного подождала и осторожно полюбопытствовала:
– Эйнштейн, а ты вообще как выглядишь?
– Это как-то изменит твою картину мира? – огрызнулся тот.
Она всегда почему-то испытывала к Эйнштейну странную умиленную жалость, потому ответила ласково, не обращая внимания ни на что неважное:
– Скорее расширит.
– Невысокий, но красивый и невероятно обаятельный, – сердито ответил он.
– Не расстраивайся. Во всяком случае, он вступил с нами в диалог.
– А я не расстраиваюсь, я злюсь. Я думаю, а ты меня отвлекаешь.
– А о чем именно ты думаешь? – не отставала она. Ей хотелось хоть как-то отвлечь его, потому что верить в то, что он просто думает о чем-то важном, у нее не получалось.
– Объясняю для недалеких: я думаю, каким в принципе мог бы быть ответ на вопрос «зачем?» в этой ситуации. Если я сумею выстроить исчерпывающий набор вариантов, то его ответ в мой набор неизбежно попадет, – без особого выражения проговорил Эйнштейн, и она сразу поверила в то, что у него и в самом деле появились какие-то соображения.
– Когда выстроишь, поделишься?
Когда он вообще ничего не ответил, она поняла, что теперь лучше заткнуться: вдруг у него и правда что-то толковое надумается?
Внезапно за правой стеной ее отсека началось какое-то движение: проснулся Холуй.
Он, в отличие от Эйнштейна, поднялся сразу и тихо: она услышала уже его шаги – и, конечно же, тоже в сторону края дощатого пола.
Почему-то за него она совершенно не боялась. Любые поводы углубиться хоть в какие-то размышления в ее положении можно было считать спасательным кругом, и она решила всерьез над этим задуматься.
Пока что получалось, что к Холую она относится не слишком серьезно просто потому, что Фермер дал ему именно такое прозвище. Учитывая ее отношение к Фермеру, это никак нельзя было считать достойным объяснением. Но ведь наверняка Холуй тоже оказался здесь не без причины!
Ну что за глупость?! Получается, она уверена, что автор всей этой фантасмагории выбирает действующих лиц исключительно по параметру грандиозной общей несчастности? По готовности радостно воспользоваться предоставляемой возможностью расстаться с жизнью? А еще получается, что, по ее мнению, в случае с Холуем этот самый автор грандиозно ошибся, потому что ни при каких обстоятельствах и ни при какой степени несчастности Холуй не способен из своего отсека выпрыгнуть, как это сделал его предшественник? И все только потому, что Фермер в очередном приступе пьяной веселости назвал его Холуем?!
Ей сначала стало стыдно, а потом смешно: какие высокие материи… Может, и Эйнштейн, как и она сама, попросту цепляется за возможность начать о чем-то сосредоточенно думать, а на самом деле все это барачное поселение на краю обрыва построил какой-то маньяк? Псих, которому просто нравится чувствовать себя властителем чужих жизней? А они тут с умным видом вычисляют критерий, по которому отбираются действующие лица, и тонкие мотивы, влияющие на поведение этого маньяка?..
Некоторое время она с удовольствием копалась в тонкостях движений своей и Эйнштейновой душ, а потом вдруг снова стала противна сама себе: ведь могла же с самого начала догадаться, что Холуй не нравится ей просто потому, что очень уж явственно напоминает ей ее собственного бывшего мужа? Тот, конечно, был не столько холуем, сколько классическим альфонсом: уже через год после их свадьбы он радостно воспринял свое увольнение с работы и залег дома в поисках себя.
Искал себя он долго и самозабвенно – причем в чисто интеллектуальном плане. Он не обременялся искать работу: он просто примерял на себя разные варианты, быстро приходил к выводу, что они его не стоят, и отказывался от них в пользу неких эфемерных – таких, которые будут рассчитаны как раз на эксклюзивные особенности его тонкой души, с которыми эта тонкая душа немедленно сольется в полной гармонии, и эта гармония очень быстро приведет к феерическому успеху.
Она и сама не могла бы сказать, чем таким Холуй напомнил ей мужа, но что напомнил – это было несомненно. Она еще вчера уловила внутри некую легкую брезгливость и, устыдившись, начала честно отвечать на вопросы Холуя. Но сейчас прятаться от себя было бессмысленно: Холуй ей не нравился. Более того – он был ей противен, как стал противен бывший муж уже через год его вдохновенных духовных исканий.
Пока она разбиралась с тонкостями своей бесславно иссякшей семейной жизни, Холуй встал, справился с утренними делами (судя по звукам, идиотизм окружавшей его ситуации нисколько не повлиял на его здоровый аппетит) и занялся поисками путей к спасению.
Поиск состоял в том, что Холуй разбегался (топотал он по дощатому полу при этом нещадно) и со всей дури вбегал в дверь, которая в его отсеке наверняка находилась точно там же, где и во всех остальных – то есть в самом дальнем от обрыва конце отсека.
Все обитавшие в отсеках (кроме, разумеется, Скрипачки, с самого начала не обнаружившей никакого намерения искать пути к спасению) этот вариант уже неоднократно опробовали – и совершенно безрезультатно. Поэтому Мамаша без всякого интереса вслушивалась в происходившее за правой стеной: три широких решительных шага, пауза, потом топот разбега, глухой удар и тихое кряхтение или стон. Ни на какие другие звуки она и не рассчитывала.
В какой-то момент едва слышный глухой ответ двери на соприкосновение с разогнавшимся телом Холуя напомнил ей другой звук: они с Максимом в ее кабинете, за закрытой дверью – ее вышколенная секретарша, Максим прижал ее к двери и…
Она вспомнила глаза Максима – шальные и веселые. Они всегда оставались такими, чем бы Максим ни занимался: громил на совещании дурацкие предложения сопредельных департаментов их компании, гнал на своей роскошной спортивной машине по трассе или любил ее, прижав к двери ее же кабинета. Иногда его не слишком серьезное отношение ко всему на свете ее безумно раздражало, но чаще завораживало: это было настолько не похоже на всех прочих ее мужчин…
Когда Максим только появился в компании, она вообще не восприняла его всерьез – настолько по-клоунски он себя вел. Всем было известно, что он стал ее заместителем, минуя какие бы то ни было собеседования и даже согласования с ней: просто престарелая красотка, начальник департамента кадров, категорически отказалась продолжать свое служение компании, если на работу не будет принят ее хороший знакомый – разумеется, самый лучший в России специалист в своей области. В результате Максим был предъявлен ей, его будущей начальнице, в качестве подарка судьбы, от которого невозможно отказаться.