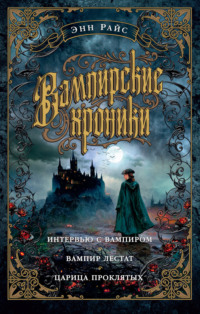
Вампирские хроники: Интервью с вампиром. Вампир Лестат. Царица Проклятых
Клодия разглядывала свои руки. Не уверен, но мне показалось, что она вздохнула. Потом подняла глаза, и ее взгляд встретился с моим. Она улыбнулась.
«Не пугайся моих фантазий, – мягко сказала она. – В конце концов, последнее слово всегда за тобой».
«Не понимаю», – сказал я.
Она холодно усмехнулась и отвернулась.
«Можешь себе представить, – шепнула она так тихо, что я едва расслышал, – шабаш детей-вампиров. Вот все, на что я способна…»
«Клодия», – прошептал я.
«Успокойся, – сказала она резко, но так же тихо. – Я имею в виду: как бы я ни ненавидела Лестата…» Она запнулась.
«Ну… – прошептал я, – продолжай же…»
«Как бы я ни ненавидела его, с Лестатом мы трое были… совершенны». Клодия взглянула на меня из-под дрожащих ресниц, словно смущаясь своего повышенного тона.
«Нет, только ты была совершенной… – сказал я ей. – Потому что с самого начала нас было двое рядом с тобой».
Кажется, она улыбнулась. Она склонила голову, ее глаза двигались под веками. Потом сказала: «Вы двое рядом со мной, ты и это так ясно видишь?»
Я ничего не ответил, но одна давно минувшая ночь действительно стояла у меня перед глазами. Той ночью Клодия была в отчаянии, она убежала от Лестата. Он заставлял ее убить женщину, от которой она испуганно отшатнулась на улице. Я не сомневался, что она напомнила девочке мать. Клодия убежала и спряталась; позже я нашел ее в шкафу, она зарылась в груду пиджаков и плащей и крепко обнимала свою куклу. Я отнес ее в кроватку, присел рядом и пел ей песни, а она смотрела на меня, прижимая к себе куклу, словно подсознательно стараясь успокоить боль, неведомую ей самой.
Можете себе представить эту семейную идиллию: полумрак, папочка-вампир поет колыбельную дочке-вампиру. Только у куклы было человеческое лицо.
«Нам надо выбираться отсюда! – вдруг воскликнула Клодия, будто только сейчас ей открылась эта непреложная истина. – Прочь от дорог, оставшихся позади, и от того, что я вижу в твоих глазах, потому что я поспешила высказать то, чего сама еще не понимаю».
«Прости меня», – сказал я так нежно, как только мог, и медленно вернулся в настоящее; прочь от той комнаты из прошлого, от детской кроватки и испуганного ребенка, от своего голоса. А Лестат, где он теперь? Спичка, что чиркнула за стеной, тень, ожившая на границе света и тьмы…
«Нет, это ты прости меня, – говорила Клодия в номере этой маленькой гостиницы неподалеку от первой столицы Западной Европы. – Мы оба простим друг друга, но его не будем прощать; видишь, что творится с нами без него».
«Просто мы устали, вот и кажется, что все плохо», – сказал я Клодии и самому себе, потому что больше в этом мире не к кому обратиться.
«О да, – сказала она. – И с этим пора покончить. Я поняла, мы с самого начала все делали неправильно. Мы не останемся в Вене. Нам нужен наш народ, наш язык. Мы поедем в Париж».
Часть III
Париж!
Мне вдруг стало радостно и легко. Это было давно забытое предчувствие счастья, и я с изумлением понял, что еще могу радоваться жизни.
Не знаю, сумеете ли вы понять меня. Трудно найти слова, чтобы передать это. Сто лет назад Париж значил для меня совсем не то, что значит сегодня. Но даже сейчас, вспоминая о нем, я переживаю нечто вроде счастья, хотя теперь-то я твердо знаю, что счастье – это не для меня. Я не заслуживаю его, да и не стремлюсь к нему.
Но все равно всякий раз при слове «Париж» сердце мое переполняет радость.
Смертная красота часто причиняет мне боль, и недолговечное великолепие пробуждает во мне неутолимую жажду, вроде той безысходной тоски, которая преследовала меня, когда мы плыли по Средиземному морю. Но Париж… Париж открыл мне свое сердце, и я забыл обо всем. Забыл, что я навеки проклят, что я не человек, а зверь в человеческой одежде и шкуре. Париж захватил меня целиком, исцелил мою боль; о таком я не мог даже мечтать.
Ведь Париж – праматерь Нового Орлеана, он пробудил его к жизни, подарил первых поселенцев. Он стал для Нового Орлеана недостижимым идеалом. Лихорадочная красота и оживленность Нового Орлеана всегда были слишком хрупкими; дикая природа окружала его со всех сторон, и ее первобытная сила подтачивала утонченную и экзотическую жизнь города. Ни одного бревна, ни одного камня нельзя было уберечь от враждебной разрушительной силы, обступившей город вечным кольцом и всегда готовой поглотить его. Ураганы, наводнения, лихорадка, чума… Влажный климат Луизианы неутомимо трудился над каждым зданием, будь оно из дерева или из камня; Новый Орлеан всегда оставался только иллюзией, мечтой, которую слепо, но настойчиво лелеяли его жители.
Париж же самодостаточен; он – особая ниша во вселенной, устроенная и хранимая вековой историей. По крайней мере, таким он был во времена Наполеона III: огромные здания, величественные соборы, широкие бульвары и узенькие извилистые средневековые улочки – город, необъятный и нерушимый, как сама природа. Все приходилось там ко двору, все принимали его ветреные, зачарованные жители; в шумных галереях, театрах и кафе снова и снова возрождались гении и святость, философия и война, фривольность и изящные искусства; казалось, даже если весь мир погрузится во тьму, здесь, в Париже, все равно не увянут побеги красоты и гармонии. Все подчинялись законам этой гармонии – величественные деревья, затенявшие улицы, полноводная Сена, несущая свои волны сквозь само сердце города. Казалось, земля, политая потом и кровью, перестала быть просто землей, преобразилась – и появился Париж.
Мы ожили. Мы любили друг друга. Страшные ночные скитания по Восточной Европе остались позади, и я был так счастлив, что не стал спорить с Клодией и согласился поселиться в отеле «Сент-Габриэль» на бульваре Капуцинов. Он слыл самым большим отелем в Европе. Роскошью и уютом он напоминал наш дом в Новом Орлеане, но огромные светлые комнаты рассеивали эти воспоминания. Мы заказали один из самых дорогих номеров, окнами на бульвар. Ранним вечером в свете газовых фонарей по асфальту прогуливались толпы людей, бесконечным потоком текли экипажи, роскошные дамы и кавалеры направлялись в оперу или в оперетту, в театр или на балет, на балы и приемы во дворец Тюильри.
Клодия доказывала необходимость подобных расходов мягко и убедительно, но я стал замечать, что она теряет терпение; ей приходилось отдавать распоряжения только через меня, и это угнетало ее. Она говорила, что гостиница предоставит нам полную свободу; мы без труда сможем скрыть свои ночные привычки и раствориться в экзотической толпе туристов, съехавшихся со всей Европы. Идеальную чистоту в номере поддерживали невидимые слуги. Мы платили огромные деньги за безопасность и покой. Но Клодии этого было мало.
«Это мой мир», – объясняла Клодия. Она сидела в уютном бархатном кресле перед раскрытой балконной дверью и разглядывала длинную череду карет, подъезжающих к входу в гостиницу. «У меня должно быть все, что мне нравится», – добавила она, как будто про себя.
И у нее было все: изумительные обои с розовыми и золотистыми узорами, дамасские кресла и бархатная мебель, изящно расшитые подушечки и шелковые покрывала, кровать с пологом. Каждый день огромные букеты свежих роз менялись на мраморной каминной полке в гостиной и на инкрустированных столиках в ее будуаре. Нежные алые бутоны отражались в высоких зеркалах. Возле окна она устроила настоящую оранжерею из камелий и папоротника.
«Я скучала по цветам, – задумчиво повторяла она, – больше всего я скучала по цветам».
Но одних живых цветов ей тоже было мало, и мы покупали в художественных салонах и галереях картины, великолепные полотна, подобные я не встречал в Новом Орлеане. Классические натюрморты реалистов, на которых цветы совсем как живые: кажется, тронь – и лепестки опадут на скатерть; и работы новомодных художников, разрушавшие представления о линиях и формах. Их яркие, насыщенные краски будили воспоминания о прошлых видениях, и мне чудилось, будто цветы распускаются прямо у меня на глазах. Париж неудержимо вторгался в наши комнаты. Я не хотел перечить Клодии и отказался от мечты найти простое и романтическое пристанище. Скоро я стал чувствовать себя в номере как дома: воздух был полон чудесного запаха цветов, как в нашем саду на рю Рояль. По вечерам мы зажигали огни, море света заливало комнаты, все оживало, исчезали даже тени на лепнине высоких потолков; свет отражался от позолоченных витых канделябров, и радужно сияли огромные хрустальные люстры. В этом блистательном мире не было ни темноты, ни вампиров.
Да, я всегда помнил, кто мы и зачем мы здесь, но как сладко было забыться хотя бы на час; представить себе, что мы просто отец и дочь; вот мы садимся в кабриолет и едем прочь от шума и огней без особой цели, а только чтобы погулять, прокатиться по берегу Сены, по мосту въехать в Латинский квартал и бродить по темным узким улочкам в поисках не жертв, но истории, а потом вернуться к себе, к уютному тиканью часов, к колоде карт на игорном столике… Сборники стихов, театральная программка, тихий гул огромной гостиницы, далекое пение скрипки, женская болтовня и потрескивание волос под гребешком – и чудак с последнего этажа каждую ночь повторяет: «Я понимаю, только теперь я понимаю, только теперь…»
«Этого ты хотел?» – спросила однажды Клодия, наверное, только для того, чтобы показать, что она про меня не забыла. Она могла часами не разговаривать со мной и ни словом не обмолвиться о вампирах. Но я чувствовал: что-то не так. В ее молчании не было прежней задумчивой безмятежности: она казалась грустной и неудовлетворенной. Часто мне удавалось уловить раздражение в ее взгляде, хотя оно бесследно исчезало, стоило мне обратиться к ней или поднять глаза, отвечая на вопрос.
«Ты знаешь, чего я хочу. – Я все еще пытался создать видимость собственной воли. – Мансарду где-нибудь возле Сорбонны, не слишком близко, но и не слишком далеко от шума улицы Сен-Мишель. Но я устроил бы там все так же, как здесь, по-твоему».
Ее лицо смягчилось, но она по-прежнему упрямо смотрела мимо меня, словно хотела сказать: «Ты не вылечишь меня. Не приближайся и не спрашивай, чем я недовольна».
Моя память, слишком острая, слишком четкая; время не может вытравить ее, не может сгладить. Страшные картины из прошлого всегда со мной, рядом с сердцем, как портрет в медальоне. Чудовищные живые картины; ни кисть художника, ни фотография не смогли бы запечатлеть их так ясно. И я снова увидел Лестата за клавишами в ту ночь, перед его смертью, и Клодию рядом с ним; вспомнил его злую насмешку и как на мгновение исказилось его лицо. Если б Лестат был внимательнее тогда, может быть, он бы остался жив.
Если он умер, конечно.
Даже безразличный наблюдатель заметил бы, что с Клодией творится неладное, точно грозовая туча собирается у нее в душе. В ней вдруг вспыхнула страсть к кольцам, браслетам и прочим недетским игрушкам. И ее элегантная походка принадлежала не маленькой девочке, но женщине. Часто она прежде меня заходила в модные лавки и требовательно указывала пальчиком на духи или перчатки и всегда расплачивалась за покупки сама. Я чувствовал себя в таких случаях крайне неудобно, но не отставал от нее, боясь не того, что с ней может что-то приключиться в огромном городе, но ее самой. Раньше она всегда играла перед своими жертвами роль потерявшегося ребенка или сиротки. Теперь она преобразилась. В Клодии появилось нечто глубоко порочное, и это шокировало очарованных ею прохожих. Но я, как правило, не присутствовал при подобных сценах. Она оставляла меня наедине с резными барельефами Нотр-Дам или просто в экипаже на окраине парка.
Однажды ночью я проснулся на своей роскошной постели, оттого что книга попала мне под бок, и обнаружил, что Клодии нигде нет. Я не решился расспрашивать прислугу: мы никогда не разговаривали с горничными и швейцарами, никто не знал наших имен. Я обшарил коридоры гостиницы, окрестные переулки, даже зашел в бальный зал неподалеку, поддавшись необъяснимому ужасу при мысли, что она может быть там одна. Я уже отчаялся, но вдруг увидел ее у входа в отель. Она вошла, и в лучах ярких ламп капли дождя заискрились в золотых локонах, выбившихся из-под шляпки. Она походила на ребенка, спешащего домой после озорной проделки, взрослые вокруг умиленно улыбались. Она прошла мимо, поднялась по широкой лестнице, как будто не заметила меня.
Я вошел в номер, затворил дверь. Клодия развязывала перед зеркалом ленты шляпки. Она тряхнула головой, шляпка упала ей на плечи, волосы рассыпались в золотистом блеске дождинок. Я вздохнул с облегчением: ее детское платье, ленточки – все это было так мирно, так уютно, и в руках она держала прелестную фарфоровую куклу. Она молча поправила на кукле платье. Ручки и ножки под платьем крепились, должно быть, проволочными крючками; они покачивались и звенели, как серебряный колокольчик.
«Это взрослая кукла, – сказала Клодия, взглянув на меня. – Ты видишь? Взрослая кукла».
Она поставила игрушку на тумбочку перед зеркалом.
«Вижу», – прошептал я.
«Ее сделала для меня одна женщина, – продолжала Клодия. – Вообще-то, она мастерит кукол-девочек, но они все на одно лицо. У нее целая лавка таких. А я попросила ее сделать для меня взрослую куклу».
Ее слова звучали загадочно и вызывающе. Она села в кресло и, чуть морща лоб под мокрыми прядями волос, внимательно разглядывала свое приобретение.
«Ты знаешь, почему она согласилась выполнить мою просьбу?» – спросила Клодия, и мне вдруг захотелось, чтобы в комнате было не так светло, чтобы я мог забиться в какой-нибудь угол, укрыться от ее пристального взгляда. Но я сидел на огромной кровати, точно на ярко освещенной сцене, а она была передо мной и повсюду, она отражалась в бесчисленных зеркалах, меня обступал хоровод голубых платьев с буфами.
«Потому что ты очаровательное дитя и ей захотелось порадовать тебя», – ответил я слабым и чужим голосом.
Она беззвучно рассмеялась.
«Очаровательное дитя, – повторила она, насмешливо взглянув на меня. – Ты все еще считаешь меня ребенком? – Ее лицо вдруг потемнело, она взяла игрушку в руки, наклонила фарфоровую головку к груди. – Да, я похожа на ее кукол. Я и есть кукла. Стоит посмотреть, как она работает, возится со своими куклами, рисует им одинаковые глаза, губы…» Она коснулась собственных губ.
И вдруг словно ветер пронесся по комнате, казалось, что стены качаются, будто земля под гостиницей содрогнулась. Где-то внизу катились экипажи, но это было слишком далеко, в другом мире. И я увидел: вот она сжала руку, стиснула куклу в кулачке; фарфоровые осколки посыпались на пол из окровавленной ладошки. Она тряхнула кукольное платье, и на ковер дождем полетело мелкое крошево. Я в ужасе отвел глаза, но снова увидел ее в зеркалах: она внимательно разглядывала меня с ног до головы, потом шагнула вперед, как из зазеркалья, и подошла к кровати.
«Почему ты отворачиваешься, почему не смотришь на меня? – спросила она тонким, детским голосом. Потом вдруг рассмеялась, в точности как взрослая женщина, и добавила: – Ты думал, я навеки останусь твоей маленькой дочкой? Разве ты отец кукол? Или просто глупец?»
«Почему ты говоришь со мной так?» – спросил я.
«Гм…» Похоже, она кивнула.
Краешком глаза я наблюдал за ней, она казалась мне подобной яркому пламени, в котором смешались два цвета: золото волос и небесная голубизна платья.
«Что думают о тебе они, – спросил я как можно мягче, – там?»
Я указал на распахнутое окно.
«Разное. – Клодия улыбнулась. – Подчас меня восхищает человеческая способность находить объяснение чему угодно. Тебе доводилось встречать лилипутов в парках и балаганах, уродцев, которые за деньги развлекают глумливую толпу?»
«Я и сам был всего лишь подмастерьем у фокусника и фигляра! – сказал я вдруг, сам того не желая. – Подмастерьем!» Мне хотелось прикоснуться к Клодии, погладить ее по голове, но я боялся ее гнева, готового вот-вот вспыхнуть.
Она опять улыбнулась, взяла мою руку и накрыла ее крохотной ладошкой.
«Да, подмастерьем! – повторила она и рассмеялась. – Тем не менее я прошу тебя снизойти с непостижимых вершин твоего духа и ответить всего на один вопрос. Что ты чувствовал, когда… спал с женщиной? Как это бывает?»
Сам не помню, как я очутился в прихожей и принялся лихорадочно искать перчатки и шляпу, как человек в минуту помутнения рассудка.
«Ты не помнишь?» – спросила она холодно и спокойно, когда я уже взялся за медную ручку двери.
Я остановился, ее взгляд жег мне спину; мне было стыдно своей слабости. Я повернулся к ней и сам не мог понять, куда собрался идти, зачем, почему здесь стою.
«Это всегда было так торопливо. – Я старался смотреть прямо в ее глаза, ясные, голубые, холодные и такие открытые. – И это редко давало мне радость… все кончалось слишком быстро. Это было как бледная тень убийства».
«А-а-а, – протянула она. – Так же, как боль, которую я причинила тебе сейчас. Это тоже жалкое подобие убийства».
«Да, мадам, – отозвался я. – Я склонен думать, что вы правы». И, церемонно откланявшись, пожелал ей спокойной ночи.
– Не скоро я сумел замедлить шаг. Я перешел на другой берег Сены, мне хотелось темноты, хотелось убежать, спрятаться от нее, от себя самого, от своего непреодолимого страха перед лицом очевидной истины: я не способен сделать ее счастливой, значит и сам никогда не буду счастлив.
Ради ее счастья я отдал бы все, даже этот новый мир, который теперь казался мне пустым и бесконечным. Ее слова мучили меня, я снова и снова вспоминал ее глаза, полные горечи и упрека. Темные старые улочки уводили меня вглубь Латинского квартала; я придумывал для нее какие-то объяснения, что-то шептал, но уже понимал, что невозможно вылечить ее смертельную тоску и мою собственную боль.
В конце концов все мои мысли свелись к одной без конца повторяемой фразе вроде короткой молитвы. Я шептал ее, шагая в непроглядной тьме по пустынной и тихой средневековой улице, слепо заворачивая за острые углы высоких древних домов. Казалось, что узкая щель между ними вот-вот сомкнется, и переулок исчезнет без следа, точно затянется рана.
«Я не могу дать ей счастье. Не могу сделать ее счастливой. Она становится несчастнее с каждым днем», – твердил я эти слова, как молитву, как заклинание против мучительной правды, как будто я мог что-либо изменить, избавить ее от горького разочарования. Ее мечты рухнули, это путешествие привело нас еще в одну темницу; она еще больше отдалилась от меня, ей все заслонила эта тоска и жажда. А я безумно ревновал ее, ревновал даже к хозяйке кукольной лавки, потому что она хотя бы на миг подарила Клодии радость; потому что Клодия прижимала к груди ее тренькающее создание и даже не смотрела в мою сторону.
«Что все это значит? – спрашивал я себя. – Куда это приведет нас?»
Мы жили в Париже уже несколько месяцев, но я, наверное, впервые столь отчетливо понял, как огромен этот город. Никогда меня так сильно не удивляло причудливое соседство извилистых, темных улиц, вроде этой, что вела меня вглубь Латинского квартала, с миром негаснущих огней, веселья и роскоши. И так же впервые я увидел, что все это ни к чему, если она не сможет преодолеть свою тягу к невозможному, горечь и гнев. Я ничего не могу изменить. И она не может, хотя она и сильнее меня. Но она любила меня, я знал это и, даже когда повернулся и пошел прочь, чувствовал ее взгляд, полный бесконечной любви.
Растерянный и усталый, я, кажется, совсем заблудился, и вдруг мой тонкий слух, безошибочный слух вампира, уловил далекие шаги за спиной. Кто-то преследовал меня.
Сначала у меня мелькнула безумная мысль, что это Клодия. Она перехитрила меня и догнала. И тут же ее сменила другая, простая и слишком грубая после нашего сегодняшнего разговора. Для нее эти шаги тяжелы. Конечно, это всего лишь случайный прохожий движется навстречу смерти.
С тем я и пошел дальше не оглядываясь, и боль, терзавшая мое сердце, собиралась было вспыхнуть с новой силой, как вдруг внутренний голос настойчиво произнес: «Глупец, прислушайся как следует». И я понял, что шаги позади меня ошеломляюще точно совпадают с моими собственными. Случайность, решил я. Ведь смертный никак бы не смог услышать меня: расстояние было слишком велико для человеческих ушей. Но стоило мне остановиться, чтобы это обдумать, как шаги затихли. Я обернулся и, увидев только пустынную улицу, прошептал: «Луи, ты сам себе морочишь голову». Я двинулся дальше, но шаги не отставали. Я пошел быстрей, и невидимый преследователь тоже прибавил ходу. То, что случилось дальше, было совсем невероятно. Я настороженно прислушивался к шагам за спиной и шел, не разбирая дороги, поэтому споткнулся о кусок черепицы, ударился плечом о стену и чуть не упал, и в ту же секунду услышал, как шедший сзади сбился с шага, эхом отзываясь на мое падение.
Страшная тревога охватила меня. Она была сильнее, чем страх. Меня утешало только то, что мы далеко друг от друга, и я уже твердо знал, что это не человек. Кругом было темно, в окнах ни огонька. Я не знал, что делать. Мне вдруг захотелось окликнуть это существо, подозвать, сказать, что жду его и встречу его во всеоружии. Но я побоялся. И пошел дальше, все быстрее и быстрее, но расстояние между нами не сокращалось. Моя тревога росла, темнота вокруг зловеще сгущалась; я шел и повторял про себя: «Зачем ты преследуешь меня? Почему ты хочешь, чтобы я тебя слышал?»
Я обогнул угол дома, впереди блеснул свет. Улица начала полого подниматься, и я пошел очень медленно, чтобы не показываться перед ним на свету.
Совсем замедлив шаг, остановился у поворота. Вдруг прямо надо мной с грохотом обрушилась крыша дома. Я отпрыгнул как раз вовремя, но одна черепица все же задела плечо. И снова все стихло. Я смотрел на обломки и настороженно ждал. Потом медленно завернул за поворот, навстречу свету. И там, под газовым фонарем, я увидел черную фигуру и сразу понял, что это вампир.
Он был такой же худой, как я, только выше. Яркий фонарь освещал его бледное лицо; огромные черные глаза изучали меня с нескрываемым интересом. Он шагнул было ко мне, но замер. И вдруг я осознал, что не только его длинные черные волосы зачесаны так же, как у меня; не только его шляпа и плащ как две капли походят на мои, но даже поза и выражение лица в точности повторяют мои собственные. Я судорожно глотнул воздуха и медленно обвел его взглядом с ног до головы, стараясь скрыть сердцебиение. Он рассматривал меня так же пристально. Он вдруг моргнул, и я осознал, что он передразнивает меня. Это было ужасно. Я хотел заговорить, но слова застряли у меня в горле: его губы зашевелились одновременно с моими, и невозможно было остановить эту мерзкую игру. Его мрачная фигура возвышалась под фонарем, черные пронзительные глаза следили за мной с неотступным вниманием. Это была просто насмешка. Мне стало казаться, что он – настоящий вампир, а я – его отражение в зеркале.
«Умно», – сказал я с отчаяния. Разумеется, он отозвался эхом прежде, чем замер звук моего голоса. Я злился, старался унять предательскую дрожь в коленях, мое лицо невольно растягивалось в некое подобие улыбки. Он тоже улыбнулся, но в его глазах горела животная жестокость, и усмешка получилась мрачной и зловещей.
Я двинулся вперед, и он последовал моему примеру. Я остановился, и он остановился. Но потом нарушил правила игры: медленно, как во сне, поднял правую руку и несколько раз ударил себя кулаком в грудь, изображая торопливый стук моего сердца, и злобно расхохотался. Он смеялся, запрокинув голову и обнажая ужасные клыки; казалось, его смех заполнил всю улицу. Это было отвратительно.
«Ты хочешь причинить мне зло?» – спросил я, но в ответ услышал собственный вопрос, повторенный насмешливым тоном.
«Фигляр! – сказал я резко, почти грубо. – Шут!»
Это слово остановило его. Лицо незнакомца потемнело от гнева.
Я повернулся к нему спиной и пошел прочь; я подумал, что теперь ему придется все же догнать меня, хотя бы для того, чтобы выяснить, кто я такой. Неуловимо и стремительно он обогнал меня и очутился передо мной, словно появился из воздуха. Я снова повернулся к нему спиной, но он уже стоял на прежнем месте, под фонарем, и только волосы, чуть тронутые ветром, напоминали о том, что он двигался.
«Я искал тебя! Ради этого я и приехал в Париж!» Я заставил себя сказать это. Он не повторил мои слова и не шевельнулся, только пристально посмотрел на меня и пошел ко мне навстречу, изящно, неторопливо, и я понял, что он наконец стал самим собой. Он протянул руку, словно в знак приветствия, и вдруг сильно толкнул меня в грудь. Я потерял равновесие и отлетел назад. Рубашка взмокла и прилипла к телу. Я схватился рукой за стену, чтобы не упасть, потом повернулся к нему, чтобы отразить нападение, но он одним ударом опрокинул меня на землю.
Вряд ли я смогу описать, сколь велика была его сила. Вы поняли бы, если б я вдруг решил напасть на вас. Внезапный удар, но движения моей руки вы бы даже не заметили.
И тогда внутренний голос сказал мне: «Поднимись и покажи ему свою силу». Я быстро поднялся и пошел на него, вытянув руки. Но поймал только воздух, пустоту под фонарным столбом; стоял и оглядывался как последний дурак. Он испытывал меня. Я вглядывался в темноту улицы, во все углы, но его нигде не было.

