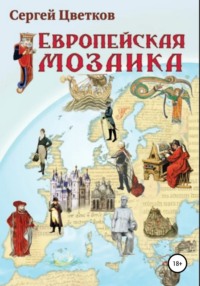
Европейская мозаика
Новые происшествия при дворе прервали наметившееся улучшение.
Юный король оказался втянутым в борьбу, которую вели между собой две могущественнейшие партии двора. Одну из них возглавляла королева‑мать и её фавориты, другую – брат Карлоса, дон Хуан, признанный бастард9 Филиппа IV. Медлительность Марии‑Анны в выполнении своих обещаний, засилье никчёмных фаворитов, проавстрийская политика, обернувшаяся военными неудачами, – всё это вызвало открытое недовольство грандов и сплотило их вокруг незаконнорождённого принца. Вначале борьба велась истинно испанскими методами: Нитард обвинил дона Хуана в сочувствии лютеранству и начал против него процесс по подозрению в ереси. Однако бойкий иезуит перестарался. Его благочестивое рвение вызвало ревность у святейшей инквизиции, недолюбливавшей приверженцев ордена Святого Игнатия10. Уступая давлению Великого инквизитора и епископата, заподозривших в ереси самого Нитарда, Мария‑Анна лишила своего духовника августейшего доверия – Нитард пал.
Враги королевы осмелели. Паутина интриг, которой она опутала двор, лопалась то здесь, то там, переход бывших союзников во вражеский стан сделался повсеместным. Почувствовав шаткость своего положения, Мария‑Анна отказалась от открытого столкновения и перенесла борьбу туда, где её права не могли быть оспорены – в область материнской заботы о юном короле. В её голове родился план, дьявольская сущность которого и составляла основу его привлекательности. Неуязвимость оппозиции заключалась в том, что она прикрывалась, как щитом, именем того, чьи интересы якобы защищала, – и этим щитом был её сын Карлос, придурковатый ребёнок, немощный, болезненный и зависимый пока что только от неё. Следовало превратить эту временную зависимость в постоянную, пожизненную. Болезненная мнительность сына была её главным козырем в этой игре: Карлос должен был почувствовать себя одержимым, и тогда вопрос о продлении её опеки над ним стал бы решённым делом.
И мать сделала всё для того, чтобы вызвать у сына душевное расстройство. Строгость его содержания была многократно усилена, Карлос был отдан в руки монахов, наиболее сведущих в искусстве исцеления одержимых – они были заранее предупреждены о том, что король страдает этим самым распространённым евангельским недугом. Монахи приступили к осаде беса со знанием дела, по всем правилам, установленным в подобных случаях отцами Церкви. Целыми днями целители внушали Карлосу, что его тело стало жилищем нечестивого, они растолковали мальчику его вину, заставили его почувствовать свой грех, запугали вечными карами. Они распространили враждебность и отчуждение, которые Карлос чувствовал вокруг себя, – в лицах, словах, жестах, вещах, – на единственный островок, до сих пор остававшийся недоступным этим чувствам – на него самого. Карлос потерял доверие к самому себе и ужаснулся этой потере. Двери светского рая захлопнулись за ним, он ощутил вину своего существования. Всякая радость, даже самого невинного свойства, была изгнана из его покоев и осуждена, как ведущая к погибели души, посты, казуистика исповеди и упражнения в истязании плоти сделались немногими разрешенными ему развлечениями. Его организм снова пришел в расстройство, слабый разум окончательно рухнул под гнётом чертовщины испанского благочестия.
Иногда по ночам, прислушиваясь к потрескиванию свечи перед распятием и невнятному бормотанию монаха над раскрытым требником, Карлос вдруг начинал слышать голоса, поначалу также глухие и неразличимые, но постепенно усиливавшиеся и оглушавшие его режущим визгом и хохотом. Он натягивал на голову одеяло, зарывался в подушки, но ад разрастался вокруг него, завывая, визжа и скрежеща на тысячи ладов, потом всё обрывалось… Карлос дрожащими ногами искал под постелью туфли; найдя, подходил к монаху, становился рядом с ним на колени и проводил так остаток ночи…
Лечение возымело действие – Карлос действительно почувствовал себя одержимым. Когда он впервые до жуткости ясно представил и ощутил в себе присутствие враждебного существа, с ним случился припадок. Карлос вновь ощутил дыхание смерти, но теперь её близость не приносила ему умиротворения.
Получив известие о припадке у сына, Мария‑Анна быстро отвернулась к окну, боясь обнаружить свою радость в обществе придворных дам. В комнате Карлоса она встретила дона Хуана. Королева и принц встали по обе стороны постели, на которой распласталось неподвижное тело Карлоса, с ненавистью глядя друг на друга. Казалось, только ширина кровати мешает каждому из них вцепиться в глотку своего врага. А Карлос, закрыв глаза, умолял беса оставить его и перейти жить в тело какого‑нибудь другого человека, всё равно какого, всё равно…
Однако расчёты Марии‑Анны не оправдались. Карлос ускользал из‑под её влияния. Припадки больше не повторялись, а вступление короля в отроческий возраст позволило дону Хуану предъявить мужские права на его воспитание: Карлос начал присутствовать на придворных собраниях, в государственном совете, пристрастился к охоте. Мало‑помалу дон Хуану удалось вырвать его из ненавистного гинекея11 и показать прелести мужской свободы. Это решило исход борьбы. Едва дождавшись совершеннолетия, Карлос подписал давно заготовленные дон Хуаном указы. Регентство было прекращено, владычество фаворитов свергнуто, Мария‑Анна изгнана в Толедо.
Карлос II начал своё призрачное царствование.
К этому времени расслабленность овладела им совершенно. Его мучили головные боли, желудочные и дыхательные катары, нервные расстройства с периодами светобоязни. Все наследственные признаки вырождения испанской ветви Габсбургов нашли в нём свое последнее выражение. Обвинение, предъявленное им природой, читалось во всей внешности Карлоса. Безобразность его невысокой рахитичной фигуры с выпирающим брюшком и сухопарыми кривыми ножками бросалась в глаза при любом костюме. Постоянный тёмный цвет его платья неприятно оттенял нечистую кожу лица и рук. Испорченное строение челюсти выносило далеко вперёд острый подбородок и оттопыренную толстую губу, делая их продолжением хищной линии носа. Длинные белокурые волосы, оставлявшие лоб открытым, и отсутствие бровей придавало сонному взгляду голубых глаз особую мертвенность. Казалось, что Карлос заснул ещё в утробе матери и никак не может пробудиться к жизни.
Никогда еще испанский двор не был столь тих и мрачен, как в эти первые месяцы его царствования. Власть имеет свои иллюзии. Карлос думал, что корона проль`т благодать любви и участия в его душу, и потому на первых порах чистосердечно принимал подобострастие и лесть за искренние знаки внимания к нему со стороны хвора. Заблуждение длилось недолго. Король ласкался к своим придворным, но встречал в ответ вместо любви – повиновение, вместо сострадания – вежливость, вместо живых чувств – этикет и церемониал. Одиночество не покидало его, скорее наоборот, на троне оно сделалось ещ` более невыносимым, потому что теперь он разделял его со множеством людей.
Подлинная жизнь двора сосредоточилась вокруг дона Хуана, все нити испанской политики оказались в его руках. Однако и этот, более удачливый и решительный временщик не знал иных способов решения политических вопросов, кроме традиционных для Габсбургов матримониальных комбинаций. Выгодный брачный контракт с одним из европейских дворов должен был, по его мнению, обезопасить Испанию извне и укрепить внутри. После недолгих размышлений выбор дон Хуана остановился на Франции: во‑первых, ввиду её недавних военных успехов; во‑вторых, из‑за того, что она была естественным союзником в борьбе с Англией, грабившей испанские галионы с американским золотом; в‑третьих, просто потому, что партия Марии‑Анны отдавала предпочтение австрийской принцессе. Единственным обстоятельством, которое смущало дона Хуана, была физическая слабость Карлоса и его отвращение к женщинам, оставшееся от детских лет. Король всё ещё не только не знал женщин, но и панически избегал их. Шелест юбки в комнате заставлял его спасаться потайными лестницами, если женщина на аудиенции подавала ему прошение, он отворачивался, чтобы не видеть её. Дон Хуан ломал себе голову, как пробудить любовь в сердце короля, и ничего не мог придумать.
Но вот однажды летом, во время совместной прогулки по галереям дворца, дон Хуан завёл короля в залу, посередине которой стояла накрытая тканью картина. Дон Хуан приказал слугам свернуть материю.
– Что вы скажете об этом портрете, ваше величество? – спросил он.
Сноп света хлынул с холста в глаза королю, и в этом сиянии перед ним во весь рост предстала прекрасная девушка в атласном платье перламутрового цвета – словно эльф в раскрывшихся лепестках бутона. Белоснежная кожа её лица, полных рук, открытой груди впитала розовато‑золотистые оттенки платья, приглушённые тона интерьера подчеркивали светоносность её образа. Она смотрела на Карлоса мечтательно‑отрешённым взором, и в уголках её по‑детски припухлых губ таяла улыбка.
И без того неподвижный взгляд короля как будто окаменел, прикованный к картине. Дон Хуан повторил вопрос.
– Кто она? – пробормотал Карлос.
– Мария‑Луиза, принцесса Орлеанская и – да будет на то соизволение вашего величества – ваша невеста и королева Испании.
– Моя королева… – чуть слышно прошептал король. – Да, да, моя королева…
Дон Хуан не поверил своим ушам.
На следующее утро лакеи, вошедшие в королевскую спальню, застали Карлоса сидящим на кровати, с красными от бессонницы глазами. Он приказал им позвать своего брата. Дон Хуан немедленно явился.
– Поторопитесь, сударь, – сказал ему король, – я хочу, чтобы эта женщина была здесь до начала зимы.
Дон Хуан, внутренне ликуя, поклонился.
В июле 1679 года в Париж отбыло посольство маркиза де Лос Балбазеса. Маркиз должен был от имени его католического величества короля Испании Карлоса II просить у его христианнейшего величества короля Франции Людовика XIV руки его племянницы Марии‑Луизы, принцессы Орлеанской.
В течение нескольких дней Карлос совершенно преобразился. Придворные взирали на своего короля с нескрываемым изумлением – им казалось, что на их глазах некая чудодейственная сила воскресила труп. Этой силой была любовь. Король нигде не хотел расставаться с портретом принцессы. Он приказал сделать с него миниатюрную копию и хранил её на груди, у сердца. Иногда он вынимал портрет из‑под камзола и обращался к нему с нежными словами. Любовь рождала в нём тысячи мыслей, которые он не мог доверить никому, ему казалось, что все недостаточно разделяют его нетерпение и желание поскорее увидеть его избранницу. Он без конца писал Марии‑Луизе и почти ежедневно отправлял нарочных, чтобы отвезти ей письмо и узнать новости о ней.
У него вырывались слова, показывавшие, что сонный взгляд короля проникал в самые глубины страдающего сердца. Некая ревнивая куртизанка заколола своего любовника у самых ворот дворца. Король приказал привести преступницу к себе. Выслушав её историю, он обратился к придворным:
– Воистину я должен поверить, что нет в мире состояния более несчастного, чем состояние того, кто любит, не будучи любим. – Ступай, – сказал он женщине, – и постарайся быть более благоразумной, чем ты была до сих пор. Ты слишком много любила, чтобы поступать сознательно.
В начале осени гонец из Парижа привёз долгожданное известие: Людовик XIV ответил согласием. Новость не успокоила короля, лишь обострила до предела его нетерпение. Чтобы унять своё возбуждение и вырвать у любви хоть несколько часов крепкого сна, Карлос прибегнул к самобичеванию. Стоя перед большим портретом Марии‑Луизы, он хлестал себя по плечам и спине короткой плетью, и капли алой крови брызгали на белоснежную кожу и перламутровое платье принцессы… Карлос готовился к любви, как аскет готовит себя к вечной жизни. Он любил, он страдал, и душа его была преисполнена гордости и надежды.
В октябре Карлос покинул Мадрид и выехал навстречу Марии‑Луизе.
II
Короли совершают человеческие жертвоприношения государственным интересам двумя способами: отправляя подданных на войну и своих детей – под венец, причём первое обычно влечет за собой второе. Людовик XIV, только что закончивший голландскую войну миром в Нимвегене12, теперь намеревался закрепить военные успехи Тюренна и Люксембурга13 династическим браком, который усилил бы французское влияние в Испании. Король знал о взаимной склонности Марии‑Луизы и дофина, но чувства молодых людей мало интересовали его, несмотря на то что восемнадцать лет назад он сам должен был по настоянию Мазарини отказаться от любви к прекрасной Марии Манчини ради брака с Марией‑Терезией. Душевных качеств этого монарха с избытком хватило бы на четырёх королей, но едва ли на одного порядочного человека. Поэтому Людовик, растроганно слушавший в придворном театре монолог Ифигении14, влекомой жрецами на жертвенный алтарь, нетерпеливо прервал Марию‑Луизу, когда она, рыдая, бросилась перед ним на колени, холодными словами:
– Сударыня, что же больше я мог сделать даже для своей дочери?
– Но, ваше величество, для вашей племянницы вы могли бы сделать больше! – в отчаянии воскликнула принцесса (она подразумевала своё желание стать супругой дофина).
Король нахмурился.
– День отъезда уже назначен, сударыня, – сказал он. – Потрудитесь быть готовой к этому времени. Я приготовил вам блестящую будущность. Вы станете залогом добрых отношений между мной и моим братом Карлосом. Вы принесёте Франции безопасность, а я позабочусь о том, чтобы доставить ей славу.
И Людовик XIV сделал знак, что аудиенция окончена.
Мария‑Луиза чувствовала то же, что и ребёнок, изгоняемый родственниками из дома после смерти родителей. Привыкнув считать французский двор, приютивший ее мать в изгнании15, самым любезным и приятным двором в мире, она меньше всего думала о том, что ей когда‑нибудь придётся его покинуть. Кроме отравления матери, только один таинственный случай омрачил её юность. Как‑то раз принцесса страдала от четырёхдневной перемежающейся лихорадки и была весьма огорчена тем, что эта болезнь мешает ей разделить со всем двором удовольствия зимних празднеств. В монастыре кармелиток, где она попросила у сестёр средства против лихорадки, ей дали питьё, после которого у неё сделалась сильная рвота. Мария‑Луиза не хотела говорить, кто дал ей питье; всё же при дворе узнали правду. Происшествие наделало много шума, однако всё ограничилось несколькими эпиграммами, пущенными в монашек какими‑то смельчаками, пожелавшими остаться неизвестными. Юная принцесса скоро позабыла об этом случае. Кроткий, но вместе с тем весёлый нрав побуждал Марию‑Луизу довольствоваться настоящим, а любовь к дофину породила в её душе сладостные надежды. Теперь же, после аудиенции у Людовика XIV, она поняла, что от неё ждут платы за гостеприимство, оказанное её матери, и этой платой должно стать её счастье. Корона королевы Испании, одна мысль о которой заставляла заливаться слезами европейских принцесс, в её глазах ничем не отличалась от тернового венца, возлагаемого на голову мученика – последний при этом, правда, не был обязан благодарить своих мучителей.
Она попыталась еще раз смягчить сердце Людовика XIV. За несколько дней до отъезда она вновь с мольбой упала к его ногам при входе в церковь. Смиренная поза любимицы двора, словно последняя нищенка ожидающей монаршей милости, вызвала в толпе придворных сочувственный шепот. Все поглядывали на дофина. Но король быстро пресёк разговоры, промолвив со своей обычной сухой иронией:
– Прекрасная сцена! Королева католическая мешает всехристианнейшему королю войти в церковь!
С этими словами он грубо отстранил принцессу и проследовал дальше. Свита короля двинулась за ним, никто из придворных не посмел помочь Марии‑Луизе подняться с колен. Дофин с подчёркнутой незаинтересованностью смотрел в другую сторону. Больше всего на свете Марии‑Луизе хотелось застыть, окаменеть здесь, на церковных ступенях, став вечным укором справедливости Всевышнего.
Камеристки почти силой усадили её в карету. Дома, немного успокоившись, она ужаснулась дерзости своих мыслей, но смирение, которым она попыталась облечь своё отчаяние, было так же невыносимо, как слишком узкий корсет.
Через несколько дней всё было готово к отъезду. Кареты Марии‑Луизы, её дам и экипажи горничных стояли запряжённые, чемоданы и сундуки были упакованы и привязаны к повозкам, пятьдесят кавалеров почётного эскорта сидели в седлах. Мария‑Луиза, опустив глаза, подошла к Людовику XIV проститься.
– Государыня, – сказал он, целуя её, и в его голосе слышалась явная угроза, – я надеюсь, что говорю вам прощайте навсегда, потому что величайшее несчастье, которое может случиться с вами, – это ваше возвращение во Францию.
Мария‑Луиза села в карету и поспешно задёрнула занавески. Всё же она сделала это недостаточно быстро, чтобы не дать заметить заблестевших на её ресницах слез. Король, считавший неприличным любое публичное проявление чувств, сделал брезгливую гримасу и подал знак к отъезду. Послышались крики возниц, щёлканье кнутов, и свадебный поезд тронулся в путь.
Время в дороге тянулось медленно. Принц д'Аркур, возглавлявший кортеж принцессы, старался сделать всё от него зависящее, чтобы мрачные мысли как можно реже посещали хорошенькую головку Марии‑Луизы во время путешествия. Ехали не спеша, подолгу задерживаясь в крупных городах и предаваясь всевозможным увеселениям, которые устраивали городские власти. В маленьких городишках, там, где у городских старшин не хватало денег и фантазии, придумывали развлечения сами. Любезная, добродушная, весёлая Франция в последний раз дарила Марию‑Луизу своей приветливой, ласковой улыбкой. Восхитительная прозрачность погожих октябрьских дней, пронизанных нежным светом нежаркого солнца, придавала поездке невыразимое очарование. Жёлто‑бурые полосы на сжатых полях по обеим сторонам дороги, голубая цепь холмов вдали, жухлая зелень убранных виноградников и золотой багрянец рощ слагались в огромный, стоцветный, радостный мир, в котором, казалось, не было места несчастью и принуждению. И Мария‑Луиза время от времени не могла не поддаваться общему настроению беспечного веселья. Любовь, доходящая до обожания, и безграничная преданность, читавшиеся на лицах её дам, кавалеров свиты и даже прислуги, придавали ей решимости казаться достойной этих чувств. Она была обворожительно‑прелестна с мужчинами и чарующе‑обходительна с дамами. Один случай даёт понять, ценой какого внутреннего напряжения ей это давалось.
Кортеж проезжал через один город, известный производством шёлковых чулок. Городские депутаты явились к Марии‑Луизе, чтобы поднести великолепные образцы своей промышленности. Однако старый испанский гранд из посольства Лос Балбазеса швырнул корзину с чулками в лицо обескураженным депутатам.
– Знайте, что у испанских королев нет ног! – крикнул он им.
При этих странных словах с Марией‑Луизой случилась истерика. Весь страх, всё отчаяние, копившиеся в ней, в один миг прорвались наружу. На руках у испуганных дам она визжала сквозь слёзы, что во что бы то ни стало хочет вернуться в Париж и что, если бы она знала до своего отъезда, что у неё хотят отрезать ноги, она скорее бы предпочла умереть, чем отправиться в путь… Все пришли в смятение, французы требовали объяснений. Изумлённый испанский гранд насилу успокоил Марию‑Луизу уверениями, что его слова не следует принимать буквально и что своей метафорой он хотел сказать лишь то, что в Испании лица её ранга не касаются земли. Наконец ему удалось добиться от неё улыбки.
Мария‑Луиза попробовала вести себя по‑прежнему непринуждённо, но это плохо ей удалось. После этого происшествия она уже не могла согнать со своего лица тревогу и растерянность. Её разум, бессильный осмыслить события последних недель, вновь и вновь возвращался к двум вопросам, которые не выходили у нее из головы: «Почему я?» и «За что?». Она замкнулась в себе и с ужасом считала дни, оставшиеся до встречи с Карлосом. Временами в ней вспыхивал гнев на саму себя за то, что она спокойно позволяет распоряжаться своей судьбой. В такие минуты Мария‑Луиза мысленно готовила планы побега, перебирала в уме своих возможных сообщников, обдумывала слова, которыми она надеялась склонить их на свою сторону. Она так глубоко погружалась в грёзы о свободе, так отчётливо представляла свои действия, так сильно переживала радость мнимого освобождения, что, когда действительность напоминала ей о себе, Мария‑Луиза не сразу могла отделаться от чувства, что видит перед собой остатки какого‑то дурного сна. Тогда она вспоминала своё сиротство, своё одиночество, вспоминала, что у неё есть поклонники, но нет друзей, что сама она всего лишь дочь беженки, воспитанная страной, по отношению к которой должна выполнить долг благодарности… Смиряясь, она упивалась своей жертвой, но затем в её мозгу снова всплывала мысль: «Почему я?» – и она опять переставала что‑либо понимать, и её жертва казалась ей бессмысленной и чудовищной.
3 ноября 1679 года кортеж Марии‑Луизы прибыл около Сен‑Жан‑де‑Люза на берег реки Бидассоа, отделявшей Францию от Испании.
С утра накрапывал дождь, но теперь небо прояснилось. Сквозь обрывки хмурых туч проглядывало неяркое солнце, тускло блестя на воде, мокрых камнях и крупах лошадей. На пустынном берегу стоял специально выстроенный позолоченный деревянный дом, где принц д'Аркур должен был передать Марию‑Луизу в руки маркиза Асторгаса. Кареты и всадники сгрудились вокруг постройки. Д'Аркур предложил Марии‑Луизе руку, чтобы проводить её в дом. Принцесса прошла вместе с ним и со своей статс‑дамой госпожой Клерамбо в отведённую ей комнату, покорно села на предложенный ей стул и стала ждать, когда за ней придут. Она была охвачена ледяным ужасом, параличом мысли и воли, превращавшим её в послушный манекен.
Спустя какое‑то время Мария‑Луиза увидела в окно, как несколько человек в чёрных плащах шли с другого берега по узкому мосту. Вскоре в соседней комнате послышался голос д'Аркура, приветствующий испанцев. Спустя ещё некоторое время дверь отворилась, и д'Аркур пригласил Марию‑Луизу выйти.
– Король Карлос разрешает вам взять с собой четырёх дам и несколько человек прислуги, – сказал он. – Кого бы вы желали выбрать?
Мария‑Луиза испуганно посмотрела на него и оглянулась на госпожу Клерамбо.
– Может быть, вы? – слабым голосом произнесла она.
– Не беспокойтесь, ваше величество, я всё улажу, – ответила статс‑дама.
Она вышла и вернулась с тремя женщинами, которые поклонились Марии‑Луизе и заняли место возле неё.
– Ну что же, ваше величество, соблаговолите выйти к остальным вашим друзьям. Настало время проститься, – сказал д'Аркур.
Мария‑Луиза переступила порог и остановилась. Силы покинули её, она прислонилась к стене. Госпожа Клерамбо и госпожа Берфлёр подхватили Марию‑Луизу под руки и, чуть ли не волоча её ногами по камням, подвели к кавалерам и дамам свиты, тесной толпой стоящим поодаль возле карет.
Французы по очереди стали подходить к Марии‑Луизе для прощания. Она по привычке хотела протянуть им руку, но маркиз Асторгас громко воспротивился этому, напомнив, что никто не смеет касаться её величества. Мария‑Луиза безвольно, как по команде, опустила руку и, глядя в землю, отвечала на поклоны и реверансы едва заметным кивком головы.
Дамы повели её к мосту, Асторгас двинулся следом. С противоположной стороны, навстречу им, шло несколько женских фигур, одетых в чёрное. Дойдя до середины моста, Мария‑Луиза порывисто обернулась. Французы почтительно склонились в последний раз. Мария‑Луиза закусила губы, слёзы брызнули у неё из глаз. Ей показалось, что она переходит Стикс. В отчаянии она уже сделала шаг по направлению к французскому берегу, но в это мгновение чья‑то узкая сухая рука крепко ухватила её запястье. От неожиданности Мария‑Луиза вскрикнула и оглянулась. Высокая бледная старуха с маленькими суровыми глазками на длинном морщинистом лице ещё крепче сжала её руку.
– Я герцогиня Терра‑Нова, камарера‑махор16 вашего величества. Извольте следовать за мной, – холодно произнесла она, и в её повелительном голосе слышалось, что отныне власть над душой и телом королевы принадлежит ей.
Старуха отпустила Марию‑Луизу, поклонилась и спокойно пошла назад. Девушке показалось странным, что с ней разговаривают таким тоном, но удаляющаяся прямая спина герцогини безоговорочно пресекала все возражения и протесты. Мария‑Луиза подчинилась и, перейдя мост, взошла вслед за камарерой на барку с застеклённой комнатой.
Как ни была Мария‑Луиза погружена в свои переживания, она не могла не заметить, что камарера занимает среди испанцев какое‑то особое, исключительное положение. Маркиз Асторгас и другие гранды как‑то сразу исчезли из поля зрения, предоставив ей право распоряжаться всем на судне. Все разговоры при её приближении почтительно стихали, а её короткие приказы, отдаваемые с ледяным спокойствием, исполнялись незамедлительно. Мария‑Луиза сразу инстинктивно почувствовала в этой старухе своего злейшего врага и решила повнимательнее присмотреться к ней.
Герцогиня Терра‑Нова из дома Пиньятелли была внучкой Фернандо Кортеса17. Воплощённая надменность, она держала себя равной с королём и королевой перед равными. Её внешность казалась ветхим слепком дряхлеющего могущества Испании. Герцогине было шестьдесят лет, но выглядела она на все семьдесят пять. Она была безобразна и плохо сложена, вместе с тем она обладала величественной осанкой, внушавшей почтение и даже некоторую симпатию. Все её поступки, жесты и слова были строго рассчитаны. Герцогиня говорила мало, но «я хочу» и «я не хочу» произносила так, что людей охватывала дрожь. Иметь её врагом означало то же самое, что брать змею за хвост: смертельный удар следовал незамедлительно. Дон Карлос Арагонский, её двоюродный брат, был убит нанятыми герцогиней бандитами за то, что он требовал у неё возвращения принадлежавшего ему герцогства Терра‑Нова, которым герцогиня бесконтрольно пользовалась. Суровость и старость герцогини сыграли решающую роль при назначении её на должность. Камарера‑махор была, так сказать, официальной тюремщицей королевы, окостенелым этикетом, не ведавшим снисхождения даже к коронованным особам. Она должна была вживить в тело и душу молодой королевы испанский церемониал, научить её есть, спать, двигаться, говорить по его незыблемым законам, указывать на каждое слово, каждый жест, отступающий от правил, значение которых было давно забыто. Неслыханные права камареры по отношению к её подопечной превосходили полномочия евнухов в гареме: они отвечали только за целомудрие своей госпожи, камарера же была ответственна перед Испанией за натурализацию её королевы.