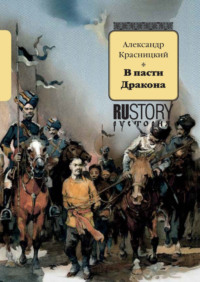
В пасти дракона
Всё это они говорили вполголоса и с самым бесстрастным видом. Зинченко, меж тем, несколько пришёл в себя. Ужас, вызванный злодеянием, прошёл и сменился негодованием. Честный казак теперь был уже вполне уверен, что виною всему был не кто иной, как образина, которого он так легкомысленно упустил на Мандаринской дороге накануне. «Уж попадись ты мне только, треклятый, в руки, я те задам кузькину мать!» – сетовал Зинченко, но, в то же время соображал, что подозрительного китайца теперь вряд ли удастся не только поймать, но даже увидать. Ветра в поле искать было нечего… Даже и думать о поимке убийцы не приходилось…

И на Николая Ивановича вид зверски убитого старика произвёл самое тяжёлое впечатление. Теперь он себя обвинял, что вмешался и это дело и до некоторой степени являлся виновником того, что подозрительному китайцу удалось ускользнуть от Зинченко.
«Нужно будет непременно сделать об этом самое подробное донесение! – думал Николай Иванович. – Без сомнения, тут кроется что-то далеко не обычное… Здесь тайна, может быть, очень и очень важная!..»
Весьма скоро ему пришлось убедиться, что он нисколько не ошибался.
К полудню уже был известен перевод доставленного Зинченко воззвания. В городе только и говорили о нём. Послание Дракона комментировалось на все лады, но никто не хотел думать, чтобы крылось под всем этим что-либо серьёзное.
– Э! Каждый-то год в Китае такие вспышки случаются! – говорили артурцы. – Ничего только особенного не выходит из них. Не в первый раз…
– Это всё против миссионеров движение на рода…
– Именно! Да и то сказать, эти господа что осенние мухи: как от них ни отмахивайся, лезут с назойливостью…
– Понятно! У всех миссионеров Запада цели не просветительные, а политические: они только расширяют своё влияние, подчиняют себе Китай, воображая, что таким путём можно овладеть этой махиной… Поплатятся они за это…
– И всё-таки идут!
– Посылают – ну и идут! Жаль только, что из-за них роняется имя европейца в понятии китайцев.
– Но теперь эта вспышка обещает быть серьёзной… Этот призыв…
– Что же? Он нас, русских, не касается… Китайцы никогда не считали нас врагами…
– Чем, однако, всё это кончится?
– Обычно! Пошлют несколько судов в Пей-хо, погрозят пушками, вот мандарины сейчас же и пойдут на все уступки… Так бывало всегда…
Такие разговоры шли в городе.
Несмотря на явные признаки надвигающейся грозы, все были как-то странно спокойны, будто никому в голову даже не приходило, что сонная махина может проснуться и наделать всевозможных бед.
Китайское население Квантунского полуострова держало себя с виду совершенно спокойно. Не замечалось никаких признаков брожения. Смерть Юнь-Ань-О не произвела никакого впечатления, об этом случае даже говорили мало. Старика похоронили на его поле и, согласно китайским обычаям, считали его ещё «живым», что должно было продолжаться целых три года. Только сыновья старика ходили всё более и более удручёнными. Очевидно, их тяготила какая-то дума. Когда оба молодых китайца были одни и не опасались того, что их могут подслушать, они вели шёпотом долгие таинственные разговоры, в которых часто поминались имена их отца и сестры…
Между прочим, они стали чуть ли не постоянными гостями у Николая Ивановича, но пока что всё ещё не решались посвятить его в свои планы.
Однако не все в Порт-Артуре были так спокойны. «Власть имущие» уже знали, что в Китае подготовляются серьёзные события, и энергично готовились к ним. В порт-артурскую гавань стягивались суда тихоокеанской эскадры, производились частые учения войск, но гром всё ещё не был слышен, хотя приближение грозы с каждым днём чувствовалось всё сильнее.
9. Среди китайских патриотов
Японец Шива лучше чем кто-либо другой знал, каково положение дел, в то время когда европейские дипломаты чувствовали себя совершенно спокойными в стенах своих игрушечных домиков в улице Посольств. Недаром же он жил в Пекине с самого окончания японско-китайской войны, недаром он прекрасно знал китайский язык и, главное, недаром был сам таким же природным азиатом, как и китайцы. Он, конечно, не мог проникнуть за стены Запретного города, доступ куда был возможен даже не для всех мандаринов и иных высокопоставленных лиц, но зато он знал, что во дворце богдыхана чуть не ежедневно происходят продолжительные совещания, на которые собираются все высокопоставленные сановники Пекина и главари бесчисленных китайских сообществ.
Запретный город, где живёт «сын Неба», весь утопает в бесчисленных садах и аллеях. В тени их везде понастроены сверкающие золотом дворцы, павильоны, террасы и галереи. В садах всюду пруды, около них искусственно созданные гроты, мостики, лёгкие и необыкновенно изящные, рыбные садки, в кои напущены любимые китайцами золотые рыбки. Всюду необыкновенная восточная роскошь, ослепляющая глаз европейца, и вместе с тем необыкновенная простота в обстановке, ещё более усиливающая контраст. Дворцы Запретного города двухэтажные. Главная комната их – приёмная, посвящённая домашним богам и предкам. Остальные залы с неизменными кангами, которые могут служить в одно и то же время и постелью, и диваном.
Когда с наступлением ночи наглухо закрываются ворота Запретного города, в нём остаётся единственный только мужчина – это сам «сын Неба», богдыхан. Все же остальные – это участники общества «Лао-кун», или «старых петухов», то есть евнухов, которые и охраняют в ночное время покой своего повелителя. Так было заведено уже издревле, но полковник Шива имел самые точные сведения, что эта древнейшая традиция весной прошлого года подверглась жестокому нарушению. Незадолго до запора ворот в Запретный город тайно пробирались в императорский дворец члены великого совета, цунг-ли-яменя, министры, цензоры, командиры китайских и маньчжурских полков и главари особенно значительных сообществ: «И-хо-туан», конечно, «Хин-лу-дзе», то есть «Ослов, торгующих солью», и «Леу-минга», то есть нищих.
Последнее сообщество, после «И-хо-туана», самое влиятельное в Пекине. Шестая часть населения столицы Поднебесной империи принадлежит к нему, и каждый дом Пекина обложен особой податью в пользу «князя нищих», в получении которой он выдаёт квитанции за своей печатью. «Леу-минг» особенно сильно своей правильно поставленной организацией. Члены его – нищие, в сущности не что иное, как отчаянные грабители и воры; но в то же время они все непременные участники во всех китайских процессиях: похоронах, свадьбах и т. п., на которых исполняют роль «публики». Все они распределены на отдельные дружины, из которых каждая действует в своём строго определённом районе, и только квитанция «князя нищих» обеспечивает торговцам и обитателям безопасность от их нападений.
Что такое это общество по существу своему – доказывает уже то, что правительство в случае народных волнений всегда старалось привлечь нищих на свою сторону и часто с помощью только их одних избавлялось от серьёзной опасности – столь велико их влияние…
В одну из ночей в главном павильоне императорского сада происходило тайное собрание – далеко уже не первое. Собрались китайские патриоты, и на этот раз, как это было видно по их озабоченным лицам, собрание должно было иметь решающее значение.
Было около двадцати мандаринов, оставивших на этот раз всякую заботу о соблюдении каких бы то ни было церемоний, столь обычных в жизненном обиходе.
Впрочем, все были сосредоточенно важны, тихи, страстных обсуждений вопроса не было – говорили только о том, что непосредственно касалось дела.
Это не были изуверы-дикари, какими принято считать всех без исключения китайцев с европейской точки зрения. Нет, это были люди, может быть, и не по-европейски, но, безусловно, развитые, хотя и со своим особенным взглядом на положение вещей. Достаточно уже того, что каждый из них был основательно знаком со всеми тонкостями учения величайшего из мировых философов – Конфуция, и знаком не в смысле познания одной только буквы, но и философской сущности. Большинство их не раз и подолгу бывало в Европе и достаточно насмотрелось на установившиеся там порядки, чтобы желать насаждения их и в своей стране. Кроме того, в каждом из собравшихся сказывалась выработанная целыми поколениями привычка повелевать и встречать в подчинённых беспрекословное повиновение. Мандарины спокойно выслушивали, ни на миг не перебивая, говоривших, спокойно, но твёрдо высказывали своё мнение, приводя в подтверждение ему свои доводы. Это было собрание государственных людей в полном смысле слова.
Говорил принц Туан, отец наследника престола и один из умнейших людей своей страны.
Это был человек невысокого роста, с бесстрастным лицом, тихими, плавными движениями и медленной, но красивой речью. В Китае все знали его как поэта, и уличные рассказчики разносили по всей стране его поэтические сказки, которыми простой народ просто заслушивался. Несколько лет в своей молодости он прожил в Бельгии – в Брюсселе, был даже там причислен к карабинерному полку и щеголял в бельгийской офицерской форме. За эти годы он присмотрелся к быту европейцев и возвратился на родину убеждённым консерватором, воочию увидевшим, что для его народа европейские порядки не добро и польза, а несомненная гибель.
Можно ли винить этого человека за то, что он так думал? Ведь он ничего, кроме пользы, не желал своей стране, и недавние события доказали всему миру, что и китайский народ всецело разделял его воззрения.
Теперь он в пространной речи передавал собравшимся взгляды на взаимоотношения Европы и Китая, ссылаясь при этом на авторитет знаменитого Ли-Хун-Чанга, этого дипломата и патриота, которым гордиться могла бы каждая европейская страна.
– Европейцы, – говорил Туан, – смотрят на Китай как на сладкий пирог, от которого можно отрезать ломти соразмерно с аппетитом каждого. Но их громадные пушки, направленные со всех сторон, вовсе не доказывают их права на обладание нашей страной. Наши взгляды на жизнь совершенно противоположны европейским и далеки от них, как небо от земли. В нашей стране стремление каждого, идеал его – жить и работать для себя, для своей семьи, в Европе же люди живут и работают на государство. Это потому, что мы по самому существу наших стремлений и идеалов – любвеобильные семьянины и строгие хранители законов наших предков, завещанных нам издревле. Мы ненавидим и презираем войну и ужасаемся перспективы какой-либо перемены, могущей изменить нашу жизнь, оторвать нас от нашего родного очага, от земли, которую мы с такой искренней любовью обрабатываем. Мы сами о себе заботимся, достаточно успеваем в этом и не желаем, чтобы в Китае возникали вопросы нового общественного переустройства. Могут ли европейцы обвинять нас за это? Разве они не видят сами, что в странах больших и малых государств социальные вопросы являются ядром глубоко внедрившихся беспокойств, вулканических потрясений, которые угрожают правящим классам? Во всех европейских государствах, за исключением одной России, социальный вопрос господствует над всеми другими. Я хотел бы спросить европейцев, могут ли они по совести, честно, советовать нам возложить на самих себя добровольно бремя социализма только потому, что у них на него теперь мода? Конечно, нет! Какое нам до них дело! Далее, европейцы жалуются, что мы питаем отвращение к их влиянию, к их цивилизации. Но разве мы можем когда-нибудь забыть, что первое знакомство наше с европейской цивилизацией началось с массового убийства именно европейцами нашего народа? Припомните остров Люсон, где в одну неделю было вырезано 20 000 наших тружеников-колонистов. И кто совершил это злодейство? Европейцы-испанцы! Вот с чего началось наше знакомство с европейской цивилизацией! Неужели же в Европе полагают, что это забыто нами? Нет, тысячу раз нет! Эта отвратительная резня только укрепила народ наш в справедливом решении не пускать к себе таких цивилизаторов, несущих с собою смерть!
Туан на мгновение замолчал, а потом продолжал по-прежнему ровно, спокойно, как будто он говорил сам с собой:
– Европейцы называют нас варварами, а между тем сами совершают убийства своих соотечественников на наших глазах около нашей границы. Разве убийства неизвестны в Европе или Америке? Разве там в междоусобиях мало было пролито крови? Реки, моря, океаны! А они идут к нам с упрёками в варварстве, с учением любви, которой они сами не знают и законов которой не исполняют… Они кричат повсюду о притеснениях и гонениях христиан. Но пусть бы они дали возможность сотне или двум из наших буддийских проповедников явиться к ним и начать проповедовать свою религию в её полноте, хотя бы против содержания армий под ружьём… что бы они сказали? Разве не стали бы повсюду гнать этих проповедников? И такой проповеди в Европе терпеть не стали бы, в ней увидели бы подрывание устоев, разрушение общественного строя, опасное для государства, а европейские миссионеры каждый день в году учат наш народ нарушать законы его собственной страны, не повиноваться им… Что же это такое? Разве может быть допущено подобное вторжение где-либо? Да, были случаи, что у нас убивали христиан, но ведь и китайцев убивали и убивают в Америке, и в голландской Индии, и в английских колониях, и повсюду… А ведь Китай никуда не посылает миссионеров, никому не навязывает своих религиозных убеждений. Мы не спесивы и не горды, но мы понимаем всю неделикатность предписывать кому бы то ни было образец, по которому он должен молиться Богу; мы не спрашиваем никогда, как нам молиться, но и никого не заставляем молиться по-своему. А европейцы всё это стремятся проделывать, и это лишь отвращает народ наш от них. Ведь одним из самых сильных и пагубных приёмов является упрашивание, принуждение силой признавать достоверность предлагаемой формы Божества. Мы никогда этого не делаем, а нас зовут варварами. Разве мы стремимся отнять у кого бы то ни было его достояние? Нет, грабежом мы не занимаемся! А Европа? Одно сильное государство за другим приступает с ножом к нашему горлу, желая ограбить нас. Понятно, когда мы чувствуем европейский нож у своего горла, то на всё, чего только хочет Европа, мы соглашаемся. Но когда опасность миновала, мы забываем всё происшедшее. Вот этому приёму мы научились уже от европейцев. Франция по договору отдала Германии Эльзас и Лотарингию, и если бы она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы позабыть этот договор, не забыла ли бы она его? Сейчас же и забыла бы – это несомненно! То же самое и с теми провинциями, которые отобрала у нас Европа. Одно только обстоятельство спасает нас от слишком больших урезок и жертв – это зависть, с которой европейские государства следят одно за другим. Европейцы больше ненавидят друг друга, чем мы их, и в то же время порицают нашу враждебность к ним за то, что они же ограбили нас… О, у них давно решено, что делать с Китаем! Юг и центр Китая – Англии, остальное Франции и Германии. Это у них уже всё спроектировано. Они не оставляют нам ничего. Всё для них, ничего для Китая. Неужели же мы допустим нашу Родину до этого? Нанести поражение Китаю нетрудно, но завоевать и подчинить его – это трудная работа. Европейцы и американцы набросятся на нас как на лакомое для них блюдо. Только как им удастся переварить его? Сомневаюсь, чтобы это удалось! Их завистью, их жадностью к грабежу и пожиранию одного государства другим воспользуемся мы в игре против них. Пусть у них всего больше, чем у нас, но они и представить себе не могут той неограниченной энергии, которой обладает Китай и его народ и которой каждый из китайцев проникнут до мозга костей[25]. Но нам невозможно ждать, пока они примутся делить наше достояние. Мы должны предупредить это сами, а для этого есть единственный способ – изгнать иностранцев из пределов нашей страны и никогда больше не допускать их к нам. Мы достаточно сильны для этого теперь. Я сказал всё…
После того, как Туан смолк, несколько минут длилось молчание.
– Я признаю также необходимость изгнать иностранцев, – заговорил Кан-Ий, – и чем скорее это свершится, тем лучше. В особенности я настаиваю на изгнании их проповедников. Они более всего приносят зла нашему народу, развращая его своими поучениями не повиноваться законам и надеяться на защиту извне. Что будет с народной массой, если она увидит, что правители её бессильны поддержать уважение и к себе, и к богам? Наша страна погибнет, если европейцы будут оставаться среди нас.
– Изгнать их очень трудно! – заметил Юн-Лу. – Но я думаю, что народ поднимется сам на них.
– Все, составляющие «И-хо-туан», «Хин-лу-дзе», «Леу-минг», только ждут приказания. Что же касается войск наших, то сами европейцы позаботились о том, чтобы подготовить их к предстоящим битвам. Европейские офицеры обучили наши войска военному искусству, европейские заводы снабдили нас артиллерией и снарядами. Мы готовились недаром. Теперь пришло время.
– Европейцы принесли нам с собой немало хорошего! – сказал Сюй-Цзин-Чен, бывший очень долго посланником в Петербурге и Берлине и занимавший пост председателя Восточно-Китайской железной дороги. – Их железные дороги, их телеграф и теперь уже стали необходимыми даже и для Китая.
– Это справедливо, – отозвался принц Туан, – во всём этом польза.
– Как же тогда отказаться от них?
– Отказываться незачем! Мы не хотим, чтобы европейцы были среди нас, но то, что есть у них хорошего, мы оставим. Найдутся у нас и свои люди, которые заменят европейцев и на железных дорогах, и на телеграфе. Это несомненно. Затем… я слышал здесь мнение, что изгнать европейцев будет трудно. Мне кажется, наоборот. Теперь это не составит труда. Но я всё-таки боюсь одного, и сильно боюсь…
– Чего? – прозвучал вопрос.
– Чтобы к ним не пристали русские… Если это случится, то наше дело будет очень трудно.
– Но если мы изгоним европейцев, – вскричал Кан-Ий, – то вместе с ними будут изгнаны и русские.
– Нет, – холодно сказал Туан, – русские – наши друзья…
– Но Лиантунгский полуостров? Наш Люй-Шунь-Коу[26]?..
– Мы добровольно уступили им этот клочок земли. Они не вынуждали нас силой, не грозили нам. Это была наша добрая воля. Русские – наши соседи. У Китая никогда не было с ними войны. Мы живём с ними в полном согласии, и разрывать старой дружбы не следует. Пусть они владеют Порт-Артуром и Талиенванем. Не забудем, что они строят нам железную дорогу, и дорога эта будет наша[27]. Нет, русские никогда не входили в число грабителей-европейцев. Им ничего от нас не нужно, они бескорыстны. Их проповедники никогда не учили наш народ дурному, а напротив того, всегда внушали почтение к существующей власти. Они не вносили растления в народ, а укрепляли его в нравственных основах. Русские пусть остаются, мы всегда им очень рады.
– Но если они пойдут против нас?
– Они не пойдут! Им не нужно от нас ничего. Но если пойдут, то наш план не удастся. Впрочем, я вижу выход. Если русские вступятся за европейцев, мы можем отвлечь их. На семь тысяч вёрст тянется граница между нами. Если сделать там где-нибудь нападение, они направят свои полки туда, европейцы останутся одни, и мы очень скоро управимся с ними, а с русскими заключим вечный мир и союз. Только они страшны нам и никто более! Но вместе с тем должно соблюсти полную осторожность. Пусть великое дело изгнания начнут люди, принадлежащие к «И-хо-туану» и «Леумингу». «Сын Неба» в этом случае останется в стороне, и никаких неудовольствий и нареканий на него не будет. Восстанет народ, и, может быть, европейцы поймут, что сопротивляться народу невозможно.
– Поймут ли они? – вздохнул Кан-Ий.
– Если не поймут, то народная ярость устрашит их. Они погибнут и не посмеют больше являться к нам… не поймут – горе им! Мы терпели долго, пришёл конец терпению нашему. Но осторожность – прежде всего. Конфуций говорит, что осторожность – мать безопасности.
Итак, изгнание европейцев было решено китайскими патриотами.
Но каких европейцев?
Тех, которые сами воспитали против себя ненависть огромного народа.
Кто бы и что бы ни говорил про Китай в оправдание европейцев, но нельзя никогда требовать, чтобы вторжения, подобные вторжению, «панцирных кулаков» и прочих, не возбуждали терпящих от этих вторжений.
Ни один хозяин не позволит чужому человеку заводить в его доме свои порядки, как бы хороши они ни были.
10. Рабыня на престоле
Когда решение было принято окончательно, сейчас же возник вопрос, в какой именно срок должно быть назначено изгнание европейцев из страны Неба.
– Чем скорее свершится это, тем лучше для Китая! – высказал своё мнение непримиримый враг иноземцев Кан-Ий, фактический глава «И-хо-туана», почётным председателем которого был принц Туан, отец наследника престола.
– Но мы должны ещё получить указ «сына Неба»! – попробовал хоть таким путём выразить свой протест против принятого решения Сюй-Цзин-Чен, убеждённый друг евро пейцев.
– Что указ Куанг-Сю будет подписан, в этом сомневаться нельзя! – холодно взглянув на него, ответил Туан. – Куанг-Сю после того, как удалось удалить от него проклятого Кан-Ю-Вея, сделает всё, что пожелает Тце-Хси, а она так же, как и все в нашей стране, желает освобождения от иноземцев.
– Ты прав, Туан! – вдруг раздался голос из-за шёлковой занавеси, отделявшей часть залы. – Тысячу раз прав! Я мечтаю только о том, чтобы иностранные дьяволы были убраны от нас навсегда.
Занавес при этих последних словах распахнулся, и перед собравшимися патриотами появилась знаменитая Тце-Хси – императрица-мать.
Это была пожилая уже женщина с волевыми чертами лица и, несмотря на лета, довольно красивая. В её чёрных глубоко впавших глазах отражался несомненный ум. Все движения были властны, голос резок и отрывист, тон же его казался не допускающим никаких возражений.
У всех народов мира были, есть и будут свои знаменитые женщины, и Тце-Хси в числе их занимает не последнее место.
Прежде всего, эта женщина – «рабыня на престоле», как её называли китайцы, – из праха ничтожества сумела подняться на высоту престола и снискать себе своим умом, своим политическим талантом общее уважение не только в своей стране, но и далеко за её пределами.
Настоящее имя её Тце-Хси-Тоаглу-Канги-Шаойю-Чайсиг-Шокунг-Чики-Хин-Чен-Си. Даже для китайцев оно представляется трудным, и они сократили его для удобства произношения в Тце-Хси.
Судьба её чрезвычайно интересна и свидетельствует о том, какую громадную роль играет в жизни человека случай. Было распространено мнение, что Тце-Хси низкого происхождения: родители её будто бы были бродячие актёры или торговцы, но это не так. Отец её – Ли-Туан – был благородный маньчжур и за несколько лет до рождения дочери занимал высокий пост в Пекине. Но обстоятельства изменчивы. Ли-Туан потерял и должность, и здоровье и мало-помалу дошёл до ужасного положения.
Если бы он был природным китайцем, то у него был бы исход из такого положения: у него были взрослый сын и красивая молодая дочь. Их можно было бы продать, как практикуется среди китайцев, но Ли-Туан был маньчжур, и подобное дело противоречило его убеждениям и сильно развитому в нём родительскому чувству. Решиться на продажу детей он не мог. Тогда энергичная Ин-Линг сама принудила своего отца к этому… Она словно чувствовала, что судьба наградит её за такую жертву, сделав впоследствии повелительницей четвёртой части населения земного шара.
Семья Ли-Туана в то время жила в Кантоне. Бедность была ужасная, и только мир и любовь, царившие в семье, несколько скрашивали быт. Случилось так, что в Кантон приехал родственник императора, генерал Ти-Ду, бывший в счастливые дни Ли-Туана его хорошим знакомым. Этому-то мандарину и заставила отца продать её энергичная Ин-Линг. Бедняк Ли-Туан привёл дочь к Ти-Ду, рассказал о своём бедственном положении, и результатом было то, что Ти-Ду купил Ин-Линг в «карманные дочери» за пятьдесят таэлей.
Из свободной молодая девушка стала рабыней, но с того времени и засияла её счастливая звезда.
Ти-Ду и его жена были бездетны, Ин-Линг же, по китайским понятиям, была очень красива, почтительна и вела себя очень умно в своём новом положении. Мало того, она была довольно образована, и это тоже имело своё значение.
Благодаря всему этому её положение в качестве рабыни было весьма сносно. Её ум и сравнительная начитанность поразили генерала – «карманного родителя». Словно предчувствуя её будущее, он не поскупился пригласить к «наёмной дочке» учителей, и Ин-Линг под руководством их изучила многие науки, необходимые в Китае для того, чтобы стать вполне образованным человеком. Уже пятнадцати лет от роду она считалась самой умной женщиной во всём Кантоне, и такая репутация была вполне заслужена молодой Ин-Линг.
Случилось так, что однажды, проходя по улицам Кантона, Ин-Линг увидела объявление богдыхана Хсинг-Фунга о том, что все маньчжурские девушки должны явиться в Пекин, где из числа их будет выбрана вторая жена для «сына Неба». Ин-Линг была необыкновенно честолюбива. Ей было известно, что из разряда «вторых жён» выбирается заместительница императрицы в случае смерти последней. Честолюбивые мечты овладели ею. Она сейчас же по возвращении домой объявила Ти-Ду, что желает стать второй женой Хсинг-Фунга. Ти-Ду и его супруга воспротивились этому, но Ин-Линг так умело повела своё дело, что знатный мандарин официально признал её своей приёмной дочерью, одел её, как подобает быть одетой невесте из богатого и знатного маньчжурского рода, и отослал в Пекин ко двору богдыхана. Там произошёл выбор. Шестьсот маньчжурских девушек допущены были к нему, но из них чести избрания во вторые жёны императора удостоились только десять, и Ин-Линг была в числе этих счастливых.