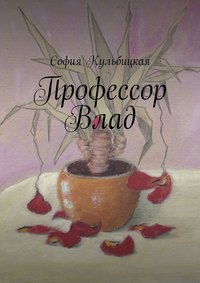
Профессор Влад
В том-то и беда, пояснил он, что, в сущности, ему и придраться не к чему. Циничный мерзавец настолько хитёр, что ни разу не выступил с открытым забралом, предпочитая мелкие, но подлые булавочные уколы. К примеру, взгляд – снисходительный, полный жалостливого презрения. Насмешливый тон. Подчёркнутое игнорирование его, Оскара Ильича, присутствия в те нередкие вечера, когда мать уходит на дежурство, а по дому принимается шастать очередная красотка в неглиже. Или даже несколько красоток сразу: гадёныш в этом деле весьма нечистоплотен, зато завел привычку демонстративно мыть руки после каждого рукопожатия с отчимом!.. За столом тоже выставляется напоказ холодная, брезгливая, молчаливая аккуратность: ни одна крошка хлеба, выпавшая из отчимова рта, ни одна случайная лужица кофе не остается без внимания – все идет в зачёт. Одно слово – мерзавец.
– То ли дело ты, Юлечка, – льстиво сказал он, потрепав меня по макушке. – И за что этим Свиридовым так повезло с ребёнком!..
Все эти разговорчики ничуть не маскировали того факта, что Оскар Ильич соскучился. Он то и дело косился на телефонный аппарат, а однажды даже дёрнулся было к нему, – но тут же сделал вид, что поправляет сложенные на трюмо справочники; я услышала, как он пробормотал: «Сама позвонишь, никуда не денешься…» Но подспудная тревога нет-нет да и пробивалась наружу, так что Оскар Ильич (теперь делавший вид, что просматривает текущую прессу) всё чаще отбегал на кухню покурить; а так как человек он экономный, то вскоре вся наша квартира пропиталась тошнотворным запахом «Пегаса». («Не гонялся бы ты поп, за дешевизной!» – бормотал под нос папа, с окостеневшей улыбкой Будды внимая оптимистичным рассуждениям шурина о «маленьких хитростях семейного бюджета»).
– Голова что-то разболелась, – посетовал дядя Ося после очередного зловонного перекура. – Кто бы полечил мне голову?..
Тут он, к моему изумлению, с ногами взгромоздился на тахту, где я мирно сидела в уголке, изучая журнал «Наука и жизнь», – и не успела я ничего сообразить, как его лицо уже утыкалось мне в колени. В следующий миг оттуда донеслось сдавленное: «…возложи руки мне на затылок!..» Я нерешительно повиновалась, с трудом сдерживая брезгливость: блёкло-рыжие волосы дяди оказались неприятно мягкими и влажными на ощупь (стояла жара). Несколько минут прошло в сосредоточенном молчании; я боялась шевельнуться – не так давно в переполненном вагоне метро меня прижал почтенный седоволосый старец, и с тех пор я относилась к мужчинам с подозрением. Хорошо ещё, что Оскар Ильич лежал спокойно, расслабившись, и ровно, глубоко дышал.
– Нет, – наконец, произнёс он, – ничего не получается. А вот когда Игорь… – Он не договорил, вздохнул, слез с тахты и отправился на кухню курить.
Вернувшись, он поинтересовался, как у меня дела с отметками, и потребовал показать «табель». Нет проблем, год я закончила вполне прилично – в основном пятёрки, несколько четвёрок по естественным наукам и тройка по новомодному предмету «москвоведение». – Что ж, молодец, – хмыкнул дядя Ося, закрывая дневник, – а вот Игорь у нас идёт на золотую медаль. – В его голосе звучало наивное отцовское самодовольство; к счастью, я вовсе не была тщеславна – и только от души посочувствовала дяде, который, видимо, ещё не совсем понимал, что со вчерашнего дня может смело считать себя бездетным.
Между тем антикварные часы в гостиной пробили три; пробили четыре; пробили половину пятого, – а Захира Бадриевна что-то не торопилась бежать к нам с повинной. Теперь Оскар Ильич уже не скрывал, насколько обеспокоен. Глистой вытянувшись на тахте, он тоскливо ел взором телефонный аппарат, словно пытаясь его загипнотизировать; увы – его глазам-бусинам далеко было до Гарриных, и адская машина упрямо хранила безмолвие. Лишь однажды – часов эдак в шесть вечера – она разразилась пронзительной трелью, от которой дядя Ося прямо-таки дугой изогнулся на своём ложе; но то был всего-навсего отцовский сослуживец, пожелавший напомнить рассеянному коллеге о предстоящем юбилее шефа.
Явилась мама – весёлая, шумная, как будто слегка помолодевшая за время отлучки; даже стоящая в квартире табачная вонь и унылое присутствие брата, которого она, по-видимому, почитала уже благополучно отбывшим, не слишком её расстроили. – Вы б хоть окна открывали, что ли!!! – загромыхала фрамугой в кухне; отдуваясь, обмахиваясь подобранной где-то рекламной газетёнкой, вернулась в гостиную, швырнула на стол сумочку, со вздохом счастливого облегчения плюхнулась на тахту и, поудобнее пристроив аппарат на колени, принялась накручивать диск.
Последующий час пополнил мои знания о жизни новым образчиком дядиного мировоззрения. Некогда, сказал он, усевшись за стол и грустно подперев щёку рукой, великие умы человечества, братья Люмьеры (?) изобрели уникальную вещь – телефонный аппарат; предназначением его было – быстро и без затруднений передавать информацию из одной точки пространства в другую, удаленную на тысячи, даже миллиарды километров. И как же они, наверное, переворачиваются теперь в гробу, видя с небес (?!), до чего кощунственно и бездарно используется их детище!
Сказав так, он встал, шагнул к маме и подергал её за плечо. Та рассеянно покивала. Тут с дядей произошло что-то страшное: мгновенно окрасившись в цвет собственных волос, он странно улыбнулся, ощерил зубы (впервые я заметила, что двух-трёх – по бокам – не хватает) … и вдруг как завизжит – слюна аж во все стороны брызнула: – Да сколько ж можно трепаться!.. Сколько ж можно трепаться?!.. Сколько ж можно трепаться?!!! – Эта истерика привела лишь к тому, что дядю изгнали из гостиной, захлопнув дверь за его спиной так, что на ковёр посыпалась штукатурка (дом наш старый, сталинский и давно нуждается в капремонте!). Сквозь узкий, давно осиротевший кошачий лаз, ещё во времена оны прорезанный в каждой двери кем-то из полувыдуманных, знакомых мне лишь по старым пожелтевшим фото усатых отцовских предков, вновь пополз омерзительный запах «Пегаса»; а я думала: удивительно, до чего он стал вздорный. Раньше он себе такого не позволял…
Бдзы-ынь! – стоило подругам распрощаться, как «уникальная вещь», точно издеваясь, заголосила вновь. Мама вздрогнула и потёрла измученное ухо:
– Але?.. – со вздохом сказала она, – да?.. Какой ещё Гарри?.. А, это ты, Игорёк…
– Ну я же говорил!!! – раздался в прихожей горестный, рыдающий вопль, и в следующий миг дядя с грохотом влетел в гостиную, едва не сорвав дверь с петель; но сокровище было уже в моих руках и оттуда слышался незнакомый, взрослый и вместе с тем страшно родной голос:
– Привет, Юлька! Как жизнь?.. Как жизнь, спрашиваю?..
Я и хотела бы толком ответить, да не могла: как раз в эту секунду Оскар Ильич, изловчившись, ухватился за низ трубки, и мне удалось отстоять её, лишь заехав дяде рукой по носу.
– Я чего звоню-то, – весело объяснял Гарри, – тут у нас книги остались, я забыл Ильичу в сумку сунуть; может, подъедешь завтра, заберёшь?.. Заодно и повидаемся, а то я утром и не разглядел тебя толком… Дорогу ещё не забыла?..
Пихнув дядю посильнее, я ухитрилась воспользоваться передышкой: конечно, помню, и не только дорогу, и была бы жутко рада увидеться снова – если, конечно, Захира Бадриевна…
– Да ты что, – возмутился брат, – мама тебя очень любит. Вот она тут передает тебе привет… (И верно: откуда-то издалека донеслись гулкие приветственные вопли тети Зары.) Так мы тебя завтра ждём, ОК?..
На сей раз Оскар Ильич подскочил сзади: крепко прижав меня к себе, он больно впился ногтями в мои пальцы, с трудом удерживающие скользкую трубку, и, обдавая всё вокруг пегасовым перегаром, истошно орал: – Сынок!.. Сыночек!.. Сынуля!.. – Не-еет, – хохотал Гарри, – Ильича мы назад не возьмём, и не надейтесь! У нас код поменялся, запиши! 731 одновременно! – Запомню! – крикнула я в пространство; – Сыночка!!! – завопил победитель, целуя окровавленный раструб… но связь уже прервалась – из трубки, в такт моему и его сердцебиению, неслись короткие гудки.
6
Филёвская ветвь метро – утешение клаустрофоба: в пиковый момент приступа, когда ты прижимаешься носом к стеклу в поисках хотя бы иллюзии пространства, милосердная электричка вдруг выныривает из узкого, тесного, тёмного тоннеля на простор, на свободу… и вот оно: измученный, вспотевший путешественник, не смея верить своему счастью, благодарно созерцает разворачивающуюся за окном панораму, с наслаждением впивая ноздрями горьковатый окраинный ветерок.
Нелишне подключить и слух: станционные платформы – открытые, белые, голые – похожи друг на друга, словно человеческие лица. И всё же я рада покинуть душный вагон. Как встарь, гляжусь в огромное, чёрт знает к чему присобаченное зеркало на краю платформы и тщательно поправляю растрепавшуюся чёлку; долго и нудно плутаю по лестницам, входам и выходам, пытаясь выбраться «в город», но снова и снова оказываясь на платформе поезда, идущего в центр, пока мне в голову не приходит парадоксальное решение – просто пойти в другую сторону… И вот, наконец, я наверху. Ах, ностальгия!..
Дальше, если мы с Топографическим Кретинизмом ничего не напутали, надо перейти дорогу и углубиться в дремучие дворы, заросшие вековыми дубами и гаражами-«ракушками»; несколько шагов по узкой извилистой тропке – и перед нами старый, обшарпанный лабиринт, приютившийся на бывшей детской площадке между трансформаторной будкой, колючими зарослями акации и сетчатым забором стадиона. Ага, вот и дом Гарри: на двери подъезда белеет плохо приклеенное объявление ЖЭКа – вот уже вторую неделю мой чистоплотный брат вынужден смывать следы дяди-Осиных рукопожатий ледяной водой. Что ещё изменилось? Только не подъезд: он, как и прежде, прекрасен, по шоколадным стенам вьётся искусственная лоза, и ступени, устланные ярко-алой ковровой дорожкой, безупречно чисты. И немудрено: вот меня провожает подозрительным взглядом чопорная пожилая консьержка – та самая, трехлетней давности, или новая?..
Допотопная лифтовая кабина, как всегда, коварно караулившая внизу, с грохотом содрогнулась, стоило мне дотронуться до кнопки; зато внутри меня ждал старый друг – тусклое кривоватое зеркало. Пятый этаж. Приехали!.. Звоню в дверь и слышу, как за ней рассыпается соловушка. А вот это и впрямь новшество! Неужели остался в прошлом тот резкий, режущий вой, от которого у тёти Зары каждый раз случался микроинфаркт? Дядя Ося позаботился?.. – успела удивиться я, прежде чем до меня донеслось радостное: – Иду-иду!.. – и вот я уже стою, как впервые, столбом в центре «Гудилин-холла», а тётя Зара, пряно-ароматная, сочно-цветистая, скачет вокруг, причитая и хохоча над тем, что её фиолетовый максфактор оставляет на щеках несмываемые следы:
– Юлечка, да что ж это такое?! Ай, невестушка выросла!! Игорёчек, ты глянь, какая к нам пришла красавица!..
Я робко помахала рукой бледной, странной половинке молча и насмешливо улыбавшегося лица, светлым пятном вдруг выступившей из тени узкого простенка – скорее всего, Гарри давно знал об этом эффекте, а может, приготовил его специально для меня; но, как бы ни старался он слиться с мраком, я ведь уже видела его вчера, хоть и мельком, и отлично знала, что он не утратил прежней стройности и изящества. Тут он шагнул вперёд, и я окончательно уверилась в том, что фокус был тщательно подготовлен: брат наверняка не случайно оделся в чёрное, под цвет темноты.
А тётя Зара понемногу успокоилась, послюнила платочек, стёрла что-то с моей щеки и грустно сообщила, что покидает нас: она с удовольствием ещё поболтала бы со мной, расспросила, как поживает папа (всегда сочувствовала бедняге!). Но увы – пора на дежурство… – В темпе вальса, в темпе вальса, – пропела она, танцующими шажками удаляясь в спальню, – Игорёчек, развлекай гостью!.. – И скрылась за дверью, оставив нас с братом наедине.
Надо бы что-то сказать, но я понимаю – это нарушит очарование момента, а оно велико – прямо Кай и Герда встретились после трёхлетней разлуки; да и сам Гарри загадочно молчит, разглядывая меня так же внимательно, как я его. Весь в чёрном, но вполне по-домашнему: футболка, потёртые джинсы, и волосы незагелены, слегка курчавятся, – а всё равно, чёрт знает почему, выглядит жутко элегантным; тоже в своём роде особая примета, заметная безо всякого овеществления.
А вот и ещё одна, уже более сомнительная. Что-то произошло с его лицом за эти годы: раньше оно было куда живее, подвижнее, а теперь такое ощущение, будто он каждую секунду строго следит за своей мимикой, и даже лёгкая демонская ухмылочка отдаёт чем-то неестественным… что-то приятное, хорошо знакомое с детства… ах, да, маска! – посмертная гипсовая маска из пушкинского музея, только на этой маске кто-то прорисовал углём брови, глаза и ресницы. Тут я вдруг поняла, почему мне кажется, что в «Гудилин-холле» чего-то не хватает. Ну конечно же – исчезли зловещие резные маски со стен!.. Не иначе, подумала я, дядя Ося заставил жену их снять – приревновал к покойнику, что ли?..
– Он боялся их, – засмеялся Гарри, всегда читавший мои мысли без помощи хрустального шара, дымовых шашек и даже недопитого чая; и опять от меня не ускользнула лёгкая нарочитость его мимики:
– А что у тебя с… – начала я, но вновь обретённый брат не дал мне договорить:
– Ты ещё гостиную не видела, это шедевр! Пойдём, посмеёшься! – и втолкнул меня в комнату, казавшуюся в детстве образцом безвкусицы. Ну что ж, должна признать – за три года она заметно изменилась к лучшему! Грозные оленьи рога, равно как и аляповатый туркменский ковёр, служивший им когда-то достойным фоном, бесследно исчезли, уступив место роскошным глянцевым фотообоям – живой, искрящийся хрустальный каскад, окутанный лёгкой дымкой, в пену взбивает острые камни подножия. Так вот оно что! Наконец-то я смогла оценить тонкий английский юмор дяди Оси, как-то раз с загадочным видом показавшего мне полароидный снимок – он с женой на фоне этого самого водопада, а внизу подпись: «Мы в отпуске»!.. Надо же, а как натуралистично смотрелось.
В комнату ворвалась огромная Захира Бадриевна в просторном жёлтом сарафане: чмокнула нас в макушки, с обаятельной грациозностью порхнула к окну: – Сколько там натикало на термометре? Двадцать семь вверх – ужас!!! – уже на бегу сообщила, что «торт и всё прочее» – на столе: – Хозяйничайте тут без меня! – и унеслась восвояси, оставив по себе стойкий запах «Пуазона» (я вспомнила курс физики за седьмой класс – молекулы газа, диффузия). Секунду спустя входная дверь гулко хлопнула, отчего стекла массивного книжного шкафа «под старину» слегка содрогнулись.
– Отбыла, – констатировал Гарри, обнимая меня за талию. – Ну что, пойдём пить кофе?
– А книги?..
– Да подожди ты со своими книгами! Я сто лет тебя не видел!
Но мне всё ещё было слегка не по себе с этим новым, повзрослевшим Гарри – может быть, поэтому я и не могла никак соскочить с нудной темы. А много ли он их оставил?.. Много, ой много – в былые времена, да если б сдать в макулатуру, хватило бы на шикарный трёхтомник Дюма… – Ты все сразу-то не забирай, – говорил Гарри, выходя в прихожую, – лучше забегай почаще, мы всегда тебе рады… Секундочку! – перебил он себя и скрылся в ванной. Миг спустя оттуда послышался чудовищный скрежет и вой, а затем – разухабистый мат, которого не смог заглушить даже шум льющейся воды: видимо, Гарри машинально отвернул горячий вентиль. Я послушала-послушала – и пошла в кухню изучать кофейные принадлежности.
Почти игрушечная позолоченная джезва оказалась, к моему удивлению и умилению, вполне настоящей, и Гарри, пообещав, что сейчас угостит меня кое-чем таким, чего я никогда не пробовала и вряд ли попробую где-нибудь ещё, принялся колдовать над ней так скрупулезно и старательно, точно приворотное зелье готовил. Стоя у плиты, он тем не менее не забывал о светских приличиях и поминутно бросал через плечо короткие, отрывистые фразы:
– Давай рассказывай – как живёшь, чем дышишь? Ильич говорил, в Тимирязевку готовишься?..
– В какую ещё Тимирязевку?!
– Ну, на ботаника. Или на биолога… Целыми днями в микроскоп смотришь и всё такое?..
Так вот он о чём… Я даже улыбнулась: дядя Ося, как всегда, в своём репертуаре. Два года назад папа подарил мне на день рождения купленный где-то с рук световой микроскоп, и я потихоньку тырила из кабинета биологии препараты разной мелкой живности; один я, кажется, стащила прямо с контрольной – то была гидра, разглядев которую в окуляр, моя соседка по парте разрыдалась от облегчения: так вот, оказывается, что означает подпись под иллюстрацией – «масштаб 100:1»! А её-то мучили кошмары, в которых животное представало точно таким, как на картинке, только увеличенным стократно: огромное, полупрозрачное, зловеще поводящее ветвями-щупальцами дерево-анчар с отвратительной присоской вместо корней!!! С тех пор она полюбила биологию; ну, а я так и осталась к ней равнодушна, что бы там ни выдумывал Оскар Ильич.
А вот что меня действительно привлекало – препараты неорганические. Микроскоп, объясняла я брату, позволил мне проникнуть в царство предметов гораздо глубже, осмысленнее: с первого взгляда я влюбилась в ковровые ворсинки, нити, клочья ваты – спутанные, перекрученные, устрашающие на вид волокна; ещё больше завораживают случайно попавшие под стёклышко пылинки, что в десятикратном увеличении превращаются в сад камней; но лучше всего положить под объектив дочиста протёртое пустое стекло – и вглядываться, вглядываться, не отрываясь, в мертвенную, загадочную, изжелта-бледную лунообразную поверхность…
Гарри слушал меня, странно похмыкивал, и в какой-то миг мне показалось, что моя болтовня его раздражает; но когда он обернулся, я увидела, что лицо его уже не похоже на маску – до того оно живое и весёлое:
– Как здорово, – проговорил он, – что хоть что-то в нашей жизни остаётся неизменным…
Я думала, тут-то он и упустит своё варево, которое, как это всегда бывает, заблагоухало и поползло кверху в ту самую секунду, когда повар утратил бдительность; но плохо же я знала старого фокусника, за три года вовсе не растерявшего навыков обращения с неживой стихией. За миг до того, как ароматная магма вспучилась над сосудом пористой шапкой, Гарри отточенным движением сдернул джезву с огня – и шагнул к столу, бормоча: – Скорей-скорей-скорей, пока пеночка не опала!..
Я торопливо подставила чашки – и брат со снайперской точностью распределил по ним коричневую жижу, поясняя мимоходом, что в пенке-то как раз и скрыт самый смак.
– А ты умеешь гадать на кофейной гуще?.. – спросила я. Гарри приподнял брови; но вопрос мой не был праздным – общаясь с дядей Осей, я тоже каких только чудес не услышала. Например, что Гарри сам зарабатывает себе на карманные расходы, и не чем-нибудь, а магией; вдаваться в подробности дядя отказался наотрез – он, по большому счёту, и остерегался лишний раз вникать в дела пасынка, если только они сами не вторгались в его мирное существование, как те пресловутые девки в неглиже. «Ходят к нему какие-то убогонькие, – неохотно отвечал он на мои жадные расспросы, – он их заводит к себе в комнату, а что там с ними делает – кто ж его знает; выходят бодрые, довольные, благодарят Зарочку за то, что вырастила такого сына, суют баксы…» Игорёк, правда, как-то говорил ему, что «чистит ауры» и «снимает порчу», но что конкретно имеется в виду, Оскар Ильич не знал, – а я, исходя из кое-каких детских воспоминаний, сильно подозревала, что не знает этого и сам Гарри. Стоит ли говорить, как мне не терпелось заглянуть в первоисточник?..
Гарри засмеялся.
– Ну-ка, ну-ка, – проговорил он, хмурясь и внимательно изучая вымазанное гущей нутро джезвы, – что у нас тут?.. О-о-о, король-олень!.. Любовь у нас с тобой будет, Юлька, большая любовь! – и с неожиданной досадой отправил сосуд-сплетник в раковину. А я и не поняла бы, что его так расстроило, если бы он вдруг не заговорил совсем другим тоном. Эх, Юлька, сколько же кретинов на свете! И как это всё получилось?.. Само, почти без его участия: сперва были игры со сковородками, трепотня о венцах безбрачия, полушутливое «наложение рук», под которые охотно подставляли свои глупые головы не только отчим, но и мама; потом невесть откуда начали возникать подруги и коллеги Захиры Бадриевны, то и дело забегавшие на огонёк и, даром что медики, дивившиеся чудесному облегчению головных и прочих болей. За ними потянулись их пациенты, знакомые пациентов, знакомые знакомых… словом, он и сам не заметил, во что ввязался, – а когда понял, было уже поздно что-то объяснять, да и деньги потекли ручейком…
– Ты хоть чувствуешь, что пьёшь? Элитный сорт, такая дороговизна!
Однажды его угораздило: не выдержал, понимаешь ли, бремени ответственности, решил облегчить душу, открыв своё истинное лицо хотя бы родной матери. Короче, в один прекрасный день он зашёл к ней в спальню и честно рассказал всё: что много лет дурил их с Оскаром Ильичом, что нет у него никакого «дара» и тэдэ и тэпэ… При этом он, кретин такой, рассчитывал если не на сочувствие, то хотя бы на понимание. Но Захира Бадриевна попросту отказалась верить, заявив, что он, дескать, «перетрудился» и что неплохо бы ему выпить валерьяночки и как следует выспаться.
Тогда Гарри, которого, что называется, переклинило, решил перейти от щадящей терапии к жёсткой хирургии: в очередной раз произведя перед мамой знаменитую «левитацию сковороды», он продемонстрировал ей то, о чем до сей поры знала только я – мускулы на ладони и магнит… Увы! Реакция тети Зары была неожиданной и удручающей! Недоверчиво повертев в руках увесистый кругляш, она смущённо сказала: «Ну, конечно, может быть, ты действительно начинал с простых фокусов, но со временем-то у тебя всё равно развился настоящий дар!»
– Ну и о чём с ними говорить после этого? – сокрушался Гарри. – Одна ты, Юлька, у меня и осталась…
Кстати, заметила ли я, что с его лицом что-то не так? Оно как будто слегка изменилось, правда?!
Еще бы не заметить; а в чём дело-то?..
Да просто он, Гарри, вот уже около года тренирует лицевые мышцы, как когда-то в детстве – пальцы и ладонь: его идеал – пластичная маска, способная мгновенно принимать любые формы. Зачем?.. Да чтобы производить ещё большее впечатление на идиотов. Запомни, Юлька, основной закон жизни: сначала ты работаешь на иллюзию, а потом она на тебя – и в любом деле самое главное это логотип и реклама. Поняла?..
– Во всяком случае, пытаюсь, – пролепетала я, потрясённая его исповедью.
7
Всё-таки жесток человек: не прошло и недели, как Гудилины вернули нам дядю Осю, а наше семейство уже помыкало им вовсю – и даже папа с его болезненной деликатностью очень скоро и незаметно для себя привык пользоваться услугами забитой и безотказной Золушки в штанах, на чьи узкие плечи легла вся чёрная работа по дому. Она чистила ковры, размораживала холодильник, мыла посуду, по нескольку раз на неделе драила полы, раковину и унитаз, – а если кому-то из нас вдруг приходила охота распить бутылочку пивка или погрызть фисташек, не возникало вопроса, кто именно влезет в раздолбанные кроссовки и побежит до ближайшего ларька. Грешно так говорить, но в какой-то мере это было справедливо: в конце концов, мы её к себе не звали…
Вновь привыкая к унизительной позе приживала, Оскар Ильич стремительно опускался. В свои тридцать семь он выглядел пятидесятилетним – отчасти из-за того, что ухитрился очень быстро растолстеть и обрюзгнуть (похоже, тётя Зара держала его в чёрном теле), отчасти оттого, что из какого-то дурацкого «принципа» совсем перестал следить за собой – и, видно, сам не заметил, как его редкие, начинающие седеть патлы свисли на плечи, усыпав их перхотью, на затылке образовалась проплешина, а под мышками любимого свитера («говнистого», как выражалась мама) зазияли чудовищные дыры.
Зато гордость его оставалась нетронутой – и вот каждое утро он, всё из того же «принципа» не желавший участвовать в семейных трапезах, поднимался спозаранку, чтобы собственноручно поджарить себе яичницу на злополучной «холостяцкой», дождавшейся, наконец, своего истинного хозяина. Кто знает, не напоминала ли она ему ещё о чем нибудь?.. Конечно да; но дядя ни разу не заикнулся об этом, упрямо делая вид, что и думать забыл об утраченном семейном счастье.
Мораторий был нарушен в день Гарриного семнадцатилетия, когда Оскар Ильич, на самом-то деле всегда свято помнивший эту дату (и даже, кажется, подобно Штирлицу запершийся в туалете, чтобы отметить её в одиночестве рюмкой водки!), передал мне, официально приглашённой на вечеринку, подарок для брата: огромный, тяжеленный полиэтиленовый свёрток, прочно перевязанный бечёвкой, под которую была втиснута стандартная почтовая открытка о трёх розочках. То был январь; как раз накануне ударили морозы, дорогу сковала гололедица, и я еле дотащила подарок, даже не подозревая, что у него там внутри, – но когда мы с Гарри развернули свёрток, я сразу узнала дядины учебники по психологии; счастливый виновник как увидел их, так упал животом на диван и начал дико хохотать. Я, донельзя уставшая, злая как чёрт, холодно поинтересовалась, чему он, собственно, так радуется; утирая слёзы, брат ответил, что, видимо, носить эти книги туда-сюда – моя карма, так что нынешней весной он, пожалуй, подарит их дяде Осе на день рождения – нарочно, чтобы не лишать меня удовольствия в третий раз перевезти их через пол-Москвы…