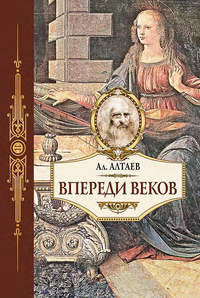
Впереди веков. Историческая повесть из жизни Леонардо да Винчи
Флоренция действительно представляла собой обширный рассадник, в котором вся Европа, начиная с главы католической церкви, папы, и кончая турецким султаном и царем московским, добывала себе зодчих, скульпторов, живописцев, золотых дел мастеров. Все это развило в самих художниках чувство собственного достоинства и законную гордость.
Здесь улица была художественным музеем; улица учила любить и познавать искусство. Каждый уличный мальчик Флоренции знал лучшие творения своих мастеров, говорил о них с гордостью и восторгом.
Немудрено, что и в маленьком Винчи теплилось горячее чувство к красоте и искусству. Ласковое, любовное отношение семьи, красота и величие дивной итальянской природы еще более усиливали это чувство.
Так рос Леонардо…
Этот неугомонный и всегда неудовлетворенный ребенок постоянно ставил в тупик своего учителя.
– Ой, Леонардо, – говаривал почтенный грек, неодобрительно покачивая головой, – ничего-то путного из тебя не выйдет. Ты хватаешься за все и ничему толком не научишься.
Леонардо молчал. Мысли его были далеко: он думал о каком-то сложном для мальчика его лет вычислении. В последнее время это особенно интересовало его.
– Эй, Леонардо, ты с каких это пор стал спать, когда с тобой говорит твой учитель?
Леонардо поворачивал голову, смотрел на учителя своими большими серьезными глазами, точно только что проснувшись от сладкого сна, и говорил:
– Я не сплю, синьор, но я думаю… думаю и не понимаю… Мне хочется, чтобы вы разъяснили мне один вопрос по математике…
Но учитель часто не мог разъяснить сомнений пытливого ума ребенка, и ему приходилось со стыдом увертываться от расспросов…
Жил в то время во Флоренции знаменитый врач и философ Тосканелли. Это имя хорошо знали даже уличные мальчики. Не раз, проходя мимо дома ученого, маленький Винчи со вздохом смотрел на таинственный вход, который в его воображении рисовался дверью в святилище. В этом доме около большого рабочего стола, покрытого сложными приборами – кубами, ретортами, перегонными шлемами, ступами, колбами и трубками, целыми днями работал, точно отшельник, этот замечательный человек, отказавшийся от мира. Яркое красноватое пламя неуклюжей печи освещало его спокойное, строгое лицо с печатью величавой думы на челе. Он исписывал длинные свитки бумаги, чертил, думал и опять чертил, и Леонардо видел это в окно его жилища. Здесь, среди тишины строгого кабинета, была определена широта и долгота Флоренции, была начерчена карта, благодаря которой сделалось возможным путешествие Колумба в Америку.
Часто Леонардо видел и на улице фигуру знаменитого математика в черном плаще, окруженного многочисленными преданными ему учениками. Длинные седые волосы окаймляли его худое лицо с глубокими, вдумчивыми глазами; вся фигура дышала каким-то важным, спокойным величием, и мальчик невольно чувствовал к ученому странное благоговение, смешанное со страхом.
Его, положительно, тянуло к таинственному дому ученого. И с каждым днем все больше и больше разгоралось в душе Леонардо страстное, непреодолимое желание говорить с этим важным стариком, идти за ним, следовать всюду, как следуют его ученики.
И он простаивал у дома Тосканелли по целым часам, как нищий, ожидающий подачки. Наконец Тосканелли заметил мальчика, следящего за ним жадными глазами.
– Кто это, Лука? – спросил небрежно Тосканелли одного из своих учеников. – Что это за таинственные фигуры?
Леонардо чертил палкой на земле геометрические фигуры и делал какие-то свои собственные вычисления.
– Что ты здесь делаешь у моего дома каждый день и зачем следишь за мной?
Мальчик вспыхнул, и большие ясные глаза его ярче заблестели.
– Я хочу учиться у вас математике! – сказал он решительно.
Это короткое заявление ребенка пришлось по вкусу ученому Он улыбнулся загадочной улыбкой.
– Который тебе год, маленький Архимед? – спросил он насмешливо, смерив с головы до ног всю его несложившуюся фигурку.
Леонардо слегка покраснел.
– Скоро двенадцать, синьор, но это не мешает мне любить науку.
– Ого, какая громкая фраза для такого маленького человечка! – воскликнул Тосканелли. – Ну что ж, все равно…
Он подумал и, слегка прищурившись, сказал шутливо:
– Отныне мой дом всегда открыт для моего нового ученого друга.
Глаза Леонардо весело заблестели. Он понял добродушную насмешку ученого и, как взрослый, раскланялся с утонченной учтивостью:
– Я буду весьма признателен синьору маэстро…
Тосканелли еще раз улыбнулся, кивнул и поднялся на лестницу, ведущую в его таинственное жилище.
С этих пор сын нотариуса сделался учеником знаменитого математика. Мало-помалу Тосканелли серьезно заинтересовался мальчиком, закидывавшим его самыми разнообразными вопросами и принимавшим горячее участие в научных беседах и опытах.
И Тосканелли наложил глубокую печать на весь склад души Леонардо…
В то время, когда Леонардо был всецело поглощен новым миром, открывшимся перед его тазами благодаря знаменитому учителю, дома у него творилось что-то неладное. Синьора Альбиера давно уже начала прихварывать и в одно утро не поднялась с постели. Тяжелая изнурительная лихорадка с каждым днем все более и более истощала это молодое, прекрасное тело.
– Я уже не встану, – говорила она грустно, – я не увижу больше ни цветов, ни зелени, ни голубого неба, не увижу больше ясного мая…
И тяжелые слезы дрожали на ее длинных ресницах.
Она угасала с каждым днем и, смотря на свое совершенное, как изваяние, тело, содрогалась при мысли о смерти.
– Кто это там ходит рядом? – говорила она с испугом. – О, матушка, что это там за старуха, зачем ты привела ее?
– Молчи, молчи! – шептала таинственно синьора Лючия. – Она поможет тебе, она знает средство… Ну, мона Изабелла, пройдите к больной…
Мона Изабелла была старая колдунья, и в то время, когда даже самые выдающиеся люди верили еще в чудеса, заклинания и колдовство, имела большой успех у флорентийцев. Она лечила, заговаривала, избавляла от порчи и беззастенчиво обманывала простодушных граждан.
И теперь она нагнулась к больной, уставясь на нее своим единственным, острым, как сталь, глазом. Больная покорно протянула ей тонкую, полупрозрачную руку.
Леонардо, забившись за высокий шкап, видел в щелку страшную старуху и неподвижным взглядом, с крепко бьющимся сердцем следил за малейшим ее движением.
И колдунья зашамкала беззубым ртом:
– Возьми мозг ласточки, разведи его в хорошем вине и дай испить больной…
Бабушка Лючия одобрительно закивала, а у больной широко, с испугом, открылись глаза.
– Добудь сердце волка… – шипела старуха, – свари его и дай съесть больной в пятницу или в воскресенье… Ой, тру дно выгнать болезнь, трудно одолеть порчу…
Она поникла головой и несколько минут думала. Леонардо ждал, притаив дыхание.

Рисунок Леонардо да Винчи
– Или возьми голову мыши и, высушивши, носи на себе…
Она опять подумала.
– Под камнем у колодца, что на дворе у мессера Алонзо, есть большая черная жаба… Когда пробьет полночь… – начала старуха и, нагнувшись к уху бабушки Лючии, продолжала таинственным шепотом.
И от этого шепота старушка испуганно и часто повторяла молитву Святой Деве, а у мамы Альбиеры лицо сделалось белым, как наволочка на ее подушке. Леонардо почувствовал, что у него больно защемило сердце и по телу побежали мурашки…
После ухода моны Изабеллы больной стало хуже. Ночью синьора Лючия со слезами на глазах принесла ей что-то завернутое в тряпку и положила на грудь. Леонардо заметил и догадался, что это печень большой жабы мессера Алонзо. Больной стало хуже…
Сложив на коленях свои худые старческие руки, синьора Лючия думала горькую думу о том, как опустеет их уютный дом и как бедный ее сын Пьеро станет одиноко и уныло ходить по пустынным комнатам, где так заразительно звенел прежде смех Альбиеры. А Леонардо? Что если он без матери, избави Бог, станет слоняться без толку по флорентийским улицам и, чего доброго, попадет в дурную компанию?
В одно утро Леонардо не пошел в школу, не пошел он и к маэстро Тосканелли: маме Альбиере стало так плохо, что пришлось послать за духовником. После исповеди все стали подходить и прощаться с больной. Леонардо душили слезы, и он выбежал из комнаты…
– Отошла… отошла… О пречистая Дева!.. – раздался вдруг скорбный крик бабушки, и, бледная-бледная, она показалась на пороге спальни. – И к чему живу я, старуха, никому не нужная, и к чему идут к Тебе такие молодые, счастливые! Боже, Боже! Ты один ведаешь, что творишь!
Леонардо заплакал, прижавшись к ее старческой, морщинистой руке, тихо, скорбно, беззвучно…
Не стало Альбиеры, и все пошло не так в доме нотариуса. Бабушка все время уныло и мрачно мурлыкала какую-то похоронную песню и говорила, что скоро ее черед: недаром собака так воет по ночам во дворе. Синьор Винчи не мог видеть этой мрачной старческой фигуры, вечно уныло перебирающей свои темные четки. Он сразу осунулся, точно постарел на десять лет; и стал реже и реже бывать дома, где все ему напоминало покойную жену.
Наконец однажды он сказал матери сквозь зубы, глядя в окно:
– Так жить нельзя. Надо жениться.
Эти слова заставили бабушку Лючию уронить от страха работу.
– Доброе дело! – сказала она через минуту равнодушно и глухо, потом спросила, как будто дело шло о покупке нового плаща: – Есть на примете? Молодая? Красивая? Из хорошей семьи? – И когда Пьеро кивнул на все утвердительно, синьора Лючия равнодушно процедила сквозь зубы: – Женись, пожалуй… Кто такая?
– Франческа Альфердини.
– А!
Ее тусклые глаза, на минуту оживившиеся, снова потухли. Для нее не было ни настоящего, ни будущего; она вся принадлежала прошлому, где остались одни только могилы.
Не все ли равно ей было, Франческа или Мария, – они не заполнят в ее сердце места, которое принадлежало Альбиере. И она молча принялась за свое нескончаемое шитье.
Леонардо утешился скорее.
Когда после смерти мамы Альбиеры он пришел в первый раз к Тосканелли, учитель заметил, что мальчик рассеян.
– Что с тобой? – спросил он, отведя Леонардо в сторону. – Отчего ты все время пропадал?
Леонардо рассказал учителю про свое горе. Тосканелли несколько минут молча ходил по кабинету, задумчиво разглаживая длинную седую бороду.
– Да, – сказал он грустно и торжественно, – люди умирают, родятся, любят, изменяют, дерутся и горюют… И все это так мелко, так скоропреходяще… И все это – пыль и тление… А там…
Он взял мальчика за руку и подвел к окну. На темном небе ярко-ярко горели крупные звезды.
– Там тысячи миров, – сказал Тосканелли каким-то новым голосом, густым и могучим, как голос пророка, – там тысячи миров, мальчик! На каждой из этих далеких звезд, быть может, копошатся биллионы таких существ, как мы! Они тоже страдают, радуются, родятся и умирают… И когда погибнут эти миры, явятся новые, и будут они сиять так же, как эти звезды в необъятном просторе вселенной… Что перед этим людские горести и радости, мальчик?
Леонардо поднял глаза на учителя, и он показался ему могучим и прекрасным, как сам Бог. Он посмотрел на звезды, и ему показалось, что все его горе и он сам – все это так ничтожно, мелко в сравнении с вселенной.
– Вселенная… – прошептал Леонардо с восторгом и страхом и зажмурил глаза.
Ему показалось, что он стоит на краю бездны, бесконечной, странной и прекрасной, наполненной огненными мирами, скачущими с неимоверной быстротой, точно золотые мячики.
– Вселенная… – завороженно повторил он.
А в открытое окно смотрели ясные, кроткие звезды, веяло тихой ночной прохладой, и из ближнего сада слышалась сладкая песня соловья…
III. Новая жизнь

Настал день, в который Франческа Альфердини явилась хозяйкой в дом Винчи. В своем белом подвенечном наряде, с ясным взглядом больших наивных глаз она казалась совсем ребенком. Ей едва минуло пятнадцать лет, и она была ниже ростом, чем ее тринадцатилетний пасынок.
Франческа застенчиво улыбнулась Леонардо, и эта улыбка напомнила ему кроткую улыбку мадонн на статуях и картинах флорентийских мастеров. И Леонардо весело, дружески улыбнулся этой девочке-мачехе, такой милой и кроткой, как овечка. Какая-то странная тяжесть точно сразу спала с его сердца. И у бабушки Лючии лицо прояснилось.
Франческа понравилась решительно всем и даже старому коту Пеппо, любимцу покойной Альбиеры. Франческа любила петь и резвиться, как девочка. Она годилась в товарищи своему пасынку.
Через два дня она чувствовала себя в доме Винчи точно в своем родном доме, и бабушка Лючия со снисходительной улыбкой смотрела, как она носилась по всем комнатам взапуски с Леонардо. Задыхаясь от беготни и обернув свое разгоряченное лицо к мальчику, она говорила:
– Слушай, мой Леонардо, давай-ка меряться, кто выше: ты или твоя новая мама?
– А вы не становитесь на цыпочки! – смеялся Леонардо. – Ведь правда же, бабушка?
И когда она, утомленная и беготней и спором, усаживалась на кресло около начатого рукоделья, личико ее продолжало трепетать от легкой шаловливой улыбки.
– А ведь нам с тобой чудесно живется, Леонардо, – говорила она, – мы точно брат и сестра. Но только ты, пожалуйста, не забывайся и непременно зови меня мамой. Смотри, не выкинь какой-нибудь штуки в присутствии чужих, а то меня никто не станет уважать во Флоренции, и даже кот Пеппо отвернется от меня, – прибавила она, со смехом щекоча пальцем шею серому коту.
А когда у Винчи собирались гости, бедная Франческа пряталась, как улитка, в свою скорлупу и из кожи вон лезла, чтобы казаться строгой и взыскательной мачехой Леонардо. Раз мальчик по рассеянности забыл в присутствии деревенских приятелей отца, что с Франческой надо держаться «по-особенному», – она горько расплакалась, как маленькая девочка.
– Ты не жалеешь меня, гадкий мальчик! – говорила она, всхлипывая. – Ведь после этого меня все станут презирать: скажут, зачем этот Пьеро женился на глупенькой Франческе! А я этого-то больше всего боюсь, чтобы твой отец не пожалел, что на мне женился. Ах ты, злой мальчик!
Леонардо стало жалко, что он ее обидел; он попросил прощенья; мир был заключен, и Франческа через минуту весело смеялась. Ее маленькая головка неспособна была долго помнить обиды.
Время шло… С некоторых пор синьор Винчи стал задумчив. Он вытащил свою большую расходную книгу и тщательно высчитывал в ней какой-то новый расход или приход. Наконец он что-то сообразил.
– Франческа, – сказал он жене, – дай мне мое новое платье.
Он не любил много говорить, и Франческа молча послушно принесла ему новый костюм.
Через нисколько часов Пьеро широко зашагал по площади Сан-Фирензе по направлению к дому своего друга, художника Андреа ди Микеле дель Чони, прозванного Верроккьо. Это был известный флорентийский художник.
Верроккьо, взобравшись на стол и вооружившись муштабелем[1], энергично объяснял что-то своим многочисленным ученикам, указывая на верхнюю часть большой неоконченной картины. Тут и там на мольбертах виднелись начатые и уже оконченные его произведения, копии с них, работы учеников. В мастерской царил ужасный беспорядок: всюду были нагромождены подставки, мольберты, лесенки, глиняные бюсты, деревянные модели, валялась кожа от печеных каштанов, которые любили уплетать между делом ученики. Они старательно выписывали на большой картине Верроккьо второстепенные предметы: участие в картине учителя было в то время распространено между художниками. Вся жизнь учеников и учителя проходила рядом, вместе, бок о бок, и это сказывалось во взаимных отношениях. Ученики составляли семью художника. Художник заботился не только об их познаниях в искусстве, но и о пище и одежде.
– Эй, Боттичелли! – кричал Верроккьо, заметив среди горячего объяснения рваные башмаки на своем ученике. – Чего ж ты мне давно не скажешь, что тебе нужны новые! А ты, – говорил он, обращаясь к рыжему и невзрачному мальчику, – отчего так неаккуратно метешь мастерскую? Просто срам с вами!
Ученики убирали мастерскую Верроккьо, скорее похожую на плохонькую лавчонку, чем на храм искусства, состояли при нем на побегушках, помогали в хозяйстве и за это получали частенько пинки. Зато они ели и спали бок о бок с хозяином, участвовали в его семейных праздниках, давали ему советы, принимали на свой счет его славу и успехи. Одним словом, они составляли одно неразрывное целое с мастером. И если какому-нибудь забияке приходило в голову умалить славу учителя, каждый из учеников считал своим долгом вступиться, часто рискуя для этого жизнью. Несколько позже описываемого времени ученики знаменитого художника Рафаэля решили убить одного дерзкого римлянина за то, что тот непочтительно отозвался об их учителе.
В мастерских юноши получали самое разностороннее художественное образование. Художник должен был совместить в себе решительно все: и живописца, и скульптора, и резчика, и ювелира, и литейщика. Всему этому мастер обучал поступавших к нему учеников.
Когда Пьеро да Винчи вошел в мастерскую Верроккьо, его оглушил смешанный гул голосов. Художник, не обращая внимания на гостя, продолжал размахивать своим муштабелем и горячиться. Винчи ударил в нос тот особенный приятный запах краски, глины и скипидара, который всегда стоит в мастерских художников.
– Привет благородному моему другу, синьору Пьеро да Винчи, – сказал наконец Верроккьо, отирая крупные капли пота, струившиеся с его разгоряченного лба. – Какая счастливая судьба привела его милость в мое скромное жилище?
– Об этой счастливой судьбе мне придется с тобой потолковать, Андреа, – отвечал нотариус, обнажая два ряда белых, как фарфор, зубов.
Верроккьо посмотрел на свои перепачканные в краске руки и, оглянувшись по сторонам, не нашел места, где бы мог усадить гостя: все было завалено картинами, папками, кистями, палитрами, ящиками с красками.
– Пойдем, друг, наверх и потолкуем на свободе, – сказал Верроккьо, указывая жестом на витую лестницу, по которой они и поднялись на половину художника.
Здесь на столе появилось неизменное вино, которое должно было развязать язык гостю.
Нотариус развернул сверток картона: в нем были рисунки Леонардо. Он нес их по улице так бережно, как будто они были сделаны из паутины, и теперь с гордостью разложил их перед Верроккьо, хотя сам не много понимал в искусстве. Он немножко струсил за своего кумира Леонардо, когда заметил, что художник медлит с ответом.

Рисунок Леонардо да Винчи
– Видишь ли, – начал нотариус, точно извиняясь, – мальчуган-то того… не то чтобы он дурно учился, но он непоседлив, как кукушка, хе-хе-хе… и из него не выйдет мне преемника. У него только пение, рисование да эта астрология на уме. Я вот и подумал, что не худо бы… того… отдать его к тебе на выучку. А ведь недурны рисунки, и у мальчика, кажется, есть способности к этому делу?
Произнеся эту небольшую речь, синьор Винчи пыхтя отер лоб: он был не особенно-то красноречив и хотел поскорее покончить с делом.
От нотариуса не укрылась краска, выступившая на лице Верроккьо, и он с радостью увидел, что рисунки сына произвели на его друга сильное впечатление. Но глаза художника так же быстро потухли: у него положительно не было места в мастерской. После долгого и глубокого размышления он сказал Винчи:
– У меня нет никакой возможности взять еще ученика, Пьеро, но все-таки я возьму твоего сына. Мне кажется, это лучший отзыв о его рисунках.
Довольный нотариус поднялся и с особенным чувством пожал протянутую руку друга.
В тот же день он привел к Верроккьо сына. Взглянув на изящную, точно выточенную фигуру мальчика, Верроккьо невольно, как художник, пришел от нее в восторг.
– Твои рисунки доказывают большую наблюдательность, – сказал Верроккьо мягко, – и я охотно возьму тебя в ученики, если ты этого хочешь.
– Да, – отвечал мальчик, прямо и открыто глядя на художника, – и мне кажется, мессер, что в этом деле я оказал бы больше успехов, чем будучи помощником моего отца.
Ответ мальчика был исполнен достоинства. Он говорил со знаменитым художником как равный, без тени страха или унижения.
– В таком случае ты останешься у меня. Переговори с отцом и перебирайся хоть завтра.
Леонардо молча почтительно поклонился и вышел из мастерской. На лице его играла спокойная и счастливая улыбка…
Верроккьо пользовался хорошей репутацией между жителями Флоренции. Всем была известна его честность, его трогательное, почти отеческое отношение к ученикам. Он журил их, как своих детей, радовался их успехам, горевал об их печалях, заботился об их одежде и пище… В свободное время Верроккьо любил шутить с ними, и в эти часы его мастерская дрожала от приливов веселого молодого смеха, но зато в часы работы Верроккьо был строг и требователен.
Верроккьо занимал почетное место между флорентийскими художниками. Впрочем, он был более ваятель, чем живописец. Даже фигуры на его картинах кажутся как бы вылитыми из бронзы, написаны с большой точностью, тело хорошо передано, но несколько сухо; обращено особенное внимание на анатомические подробности. Последняя работа Верроккьо – конная бронзовая статуя предводителя венецианского войска Бартоломео Колонны, поставленная на площади в Венеции, покрыла имя Верроккьо громкой неувядаемой славой.
Италия того времени еще не освободилась от взгляда средних веков, когда в верном изображении природы усматривали нечто греховное, когда содержанием картин служили исключительно сцены из Священного Писания. Даже выдающиеся художники этого времени изображали Христа, Богоматерь и святых не иначе, как в виде каких-то бестелесных созданий, с мертвенными лицами и в неестественных позах. Всякое напоминание о верном изображении природы казалось чуть ли не святотатством. Италия только что начала освобождаться от этих условных правил, достояния суровых средних веков.
Верроккьо не пошел по пути своих предшественников. Он указывал ученикам, что одного добросовестного тру да мало для художника и прежде всего нужно наблюдать природу, учиться понимать ее.
– Чтобы написать верно человеческое тело, – говорил он горячо и убедительно своим ученикам, – надо прежде всего изучить его во всех его особенностях. Не зная анатомии, тру дно найти верное соотношение между отдельными частями.
В этой области Верроккьо знал больше, чем многие из его современников.
– Нарисуй скелет, – убежденно гремел в мастерской его вдохновенный голос, – покрой его мускулами и жилами и тогда только облекай кожей.
И увлекаясь этой жизненной правдой, художник нарисовал своего удивительного по верности природе Иоанна Крестителя. Особенно поразительна в этой картине рука пророка, с ее жилами и сухожилиями, ясно видными сквозь кожу. Это действительно рука сурового отшельника, проводящего в пустыне целые месяцы, страшная, искалеченная, ободранная от сурового труда.
«Ведь из этого источника, – говорил о Верроккьо современный ему поэт У голино Верино, – многие живописцы почерпнули все свое уменье. Почти все, чья слава теперь гремит, были обучены в школе Верроккьо».
В мастерской знаменитого художника время летело с неимоверной быстротой. Леонардо да Винчи работал с жаром под руководством учителя. Он не жалел о том, что покинул семью. Среди новой художественной семьи, связанной неразрывно и тесно одним общим интересом, он чувствовал себя как нельзя лучше.
Мама Франческа всплакнула о верном товарище ее ребяческих шалостей, но Леонардо, прощаясь, утешал ее покровительственным тоном взрослого человека:
– Тебе вовсе не о чем плакать, мама Франческа. Ты должна понять, что есть высшие интересы, ради которых бросают все, что нам дорого. А впрочем, успокойся: у меня будут отпуски, и ни одного из них я не пропущу!
Бабушка Лючия грустным взглядом потухающих глаз проводила внука, когда он оставлял родной дом: она чувствовала, что близок закат ее жизни, и, равнодушная ко всему, безучастно отнеслась к судьбе Леонардо.
Среди учеников Верроккьо было много даровитых юношей, которые сплотились вокруг нового товарища. Но самыми близкими из них были для Леонардо Лоренцо ди Креди и Перуджино. Лоренцо, на несколько лет моложе Леонардо, был так мал и жалок, что сын нотариуса сразу решил взять его под свое покровительство. Он заменил Креди мать, сестру, няньку.
Когда зимой Верроккьо посылал Креди в лавку за лаком или краской и мальчик уныло смотрел в окно, за которым свистел ветер, Леонардо всегда незаметно старался ускользнуть на улицу и исполнить за Креди поручение хозяина. Он поправлял рисунки Креди, ухаживал за ним, когда тот был болен, и не раз приводил к его постели знаменитого Тосканелли. Как самая нежная и заботливая мать, утешал Леонардо мальчика в его детских горестях, и Креди платил Леонардо тайной восторженной привязанностью. Он даже во всем подражал сыну нотариуса.

