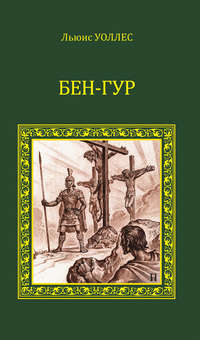
Бен-Гур

Льюис Уоллес
Бен-Гур
Печатается по изданию:
Л. Уоллес «Бен-Гур». – М.: изд. В. Н. Маракуева, 1893
© ООО «Издательство «Вече», 2011
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
***Посвящается жене, подруге моей юности
Смотри, как издали, с высоты востока, путеводная звезда спешит пролить на мир свой лучезарный свет.
И миром дышала ночь, в которую Царь света явился на землю для царства мира. И ветерок, дивясь чуду, нежно лобзал воды, передавшие эту новую радостную весть тихим волнам океана, ныне вполне забывшим эти грезы, когда мирные птицы колышутся на их чарующих гребнях.
Джон МильтонГимн «Рождение Христа».Об авторе
Льюис (Лью) Уоллес родился в городке Бруквиль (США, штат Индиана) 10 апреля 1827 года. Его отец был вице-губернатором Индианы, а мать – активисткой движения борьбы за права женщин. С детства Лью отличался беспокойным характером и склонностью к авантюрам. Окончив школу, он занялся изучением права. В это время (1846) вспыхнула Американо-мексиканская война, и юноша поступил в пехотный полк. Когда был заключен мир, Лью продолжил учебу и вскоре стал дипломированным юристом. В 1856 году его избирают в сенат штата Индиана. С начала Гражданской войны Уоллес вступает в союзную армию, где делает быструю карьеру, получив в свое распоряжение бригаду. В чине генерал-майора в 1864 году он командует войсками, обороняющими Вашингтон. Лью был участником сражений под Форт-Генри и под Форт-Донелсон, в битвах под Шилохом и под Монокаси. Впечатления от битвы при Шилохе впоследствии вошли в роман «Бен-Гур». Уоллес был членом трибунала, осудившего Джона Уилкса Бута, убийцу президента Линкольна. В ноябре 1865 года Лью Уоллес вышел в отставку, однако по поручению правительства следил за перемещениями оккупационных сил Франции в Мексике. Уоллес продолжает играть заметную роль в политике, – в частности, в 1878–1881 годах он был губернатором штата Нью-Мексико, имевшего тогда статус федеральной территории. В этой должности он навел порядок в мятежном округе Линкольн и утвердил приговор известному убийце Билли Киду. В 1881–1885 годах Уоллес занимал пост посланника в Оттоманской империи.
В начале 1870-х Лью Уоллес начинает заниматься литературной деятельностью. В 1873 году он издает повесть «Настоящий бог» о завоевании Мексики Кортесом. Книга имела успех, что побудило писателя продолжать творчество. Следом он создал свой главный роман – «Бен-Гур». По первоначальному замыслу это должна была быть небольшая новелла о трех евангельских волхвах, но после разговора с атеистом Робертом Ингерсоллом автор изменил свой замысел и решил написать настоящий роман, в котором доказывал историчность существования Иисуса Христа и показывал благотворное влияние христианской веры. Книга, благодаря сочетанию исторических, религиозных и авантюрных компонентов, имела огромный успех и была переведена на многие языки мира. В США «Бен-Гура» называют первым историческим бестселлером. В течение многих лет роман находился в числе самых продаваемых книг. В конце XIX в. чаще, чем «Бен-Гур», издавалась только Библия, по крайней мере в Америке. О популярности романа свидетельствуют такие факты: в Техасе именем Бен-Гура назван город, а в Калифорнии и Вирджинии – населенные пункты, не получившие пока статуса городов. Еще одно поселение Бен-Гур есть в Намибии. В Мексике, Бразилии, на Филиппинах появилось мужское имя Бен-Гур. Роман был четырежды экранизирован: в первый раз – в 1907 году вышла немая 15-минутная лента. Самый знаменитый кинофильм снял в 1959 году Уильям Уайлер. Эта картина получила одиннадцать Оскаров. В 2010 году история Бен-Гура стала сюжетом американского телевизионного сериала. После «Бен-Гура» Уоллес продолжал сочинять исторические книги, но они не получили и сотой доли успеха, доставшегося его лучшему роману.
В 1895–1898 годах в Кроуфордсвиле (штат Индиана), где поселился писатель, велась постройка «Кабинета генерала Уоллеса», позднее превращенного в общедоступный музей, получивший прозвище «Музея Бен-Гура». В 1896 году Лью Уоллес принимается за свою автобиографию, которая увидела свет через год после его смерти. Писатель ушел из жизни 15 февраля 1905 году. Его мраморная статуя с 1910 года находится в Американской национальной коллекции скульптур.
Избранная библиография Л. Уоллеса:«Настоящий бог» (The Fair God: A Tale of the Conquest of Mexico, 1873)
«Бен-Гур» (Ben-Hur: A Tale of the Christ, 1880)
«Отрочество Христа» (The Boyhood of Christ, 1888)
«Падение Царьграда» (The Prince of India; or, Why Constantinople Fell, 1893)
«Автобиография» (Lew Wallace: An Autobiography, 1906)
Книга первая
Глава I. Джебель-Зублех
Горный хребет, простирающийся в длину более чем на пятьдесят миль, настолько узок, что причудливыми очертаниями своей вершины напоминает гусеницу, как бы ползущую с юга на север. Стоя на скалах его, белых и красных, лицом к восходу солнца, видишь пред собою только голую Аравийскую пустыню, в которой издавна и беспрепятственно господствуют восточные ветры, столь ненавистные иерихонским виноградарям. Подошва Джебель-Зублех, со стороны протекающего в том же направлении Евфрата, плотно прикрыта наносным песком, а сам хребет служит защитой для пастбищ Моавии и Аммона, идущих к западу, и некогда тоже представлявших собой пустыню.
Каждое местечко в южной и восточной Иудее араб окрестил своим именем. Старый Джебель, на его языке означает родоначальника бесчисленных канав, во всех направлениях пересекающих Римскую дорогу. Покрытая густым слоем пыли, дорога, по которой и теперь направляются пилигримы в Мекку и обратно, в наше время лишь жалкое подобие того, чем она была когда-то. Рытвины, пересекающие ее, по мере удаления от нее превращаются в глубокие канавы, которые во время дождей становятся руслами потоков, стремящихся в Иордан, или, вернее, в главное вместилище вод этой страны – Мертвое море.
В одной из таких канавок, или, точнее, в той, которая, достигнув самого края, извивается сначала в северо-восточном направлении, а на дальнейшем своем протяжении уже становится руслом реки Джеббока, – показался путешественник, очевидно, направлявшийся к плоскогорьям пустыни. Конечно, внимание читателя остановится прежде всего на самом путешественнике.
По наружности ему, пожалуй, можно было дать все сорок пять лет. Широкая борода, спускавшаяся на грудь, некогда совершенно черная, теперь была с проседью. Лицо его, напоминавшее своим цветом поджаренное кофейное зерно, почти совсем скрывалось под красной кефией (в то время дети пустыни так называли свой головной убор). По временам путник устремлял взор в пространство, и тогда можно было заметить, что глаза у него черные и большие. Одежду его составляло обычное на Востоке широкое платье. Но ближайшему знакомству с особенностями его костюма препятствовала миниатюрная палатка, умещавшаяся на спине большого, белого, одногорбого верблюда, на котором он ехал.
Едва ли уроженец Запада будет в состоянии когда-либо привыкнуть к тому впечатлению, которое овладевает им при первом взгляде на верблюда в полной упряжи, совсем навьюченного и готового начать свое путешествие по пустыне. Привычка, фатально низводящая на степень заурядного все другие новинки, здесь оказывается бессильной. Сколько бы путешествий ни пришлось совершить европейцу с караванами, сколько бы времени ни прожил он среди бедуинов, всегда и повсюду он невольно остановится пред верблюдом и уступит ему дорогу. Его очаровывает вовсе не величественная фигура, которую сама любовь не в силах наделить привлекательностью, и даже не движения его – неслышная поступь и широкие раскачивания взад и вперед, тут сама пустыня оказывает своему детищу такую же любезность, какую море кораблю. Всей силой своей таинственной необъятности она придает ему столь сильное обаяние, что, глядя на верблюда, мы невольно думаем о пустыне. В этом и заключается чудо. Знакомое нам животное, показавшееся из канавы, по праву могло требовать почестей, воздаваемых обыкновенно верблюдам: его масть и рост, ширина поступи, мускулистое туловище, длинная, легкая, изогнутая по-лебединому шея, голова с широким лбом и настолько суживающаяся книзу, что ее мог бы, пожалуй, обхватить женский браслет, его движения, медленный и эластичный шаг, уверенная и беззвучная поступь – все изобличало в нем сирийскую кровь, столь же древнюю, как времена Кира, и по цене не имеющую себе равной. На нем была надета обыкновенная уздечка, закрывающая лоб ярко-красной бахромой с медными висячими цепями на шее, из которых каждая заканчивалась позванивающим серебряным колокольчиком; ни поводов, ни ремня для вожатого у уздечки не было.
Приспособление, помещавшееся на его спине, представляло изобретение, которое у всякого другого народа, кроме восточного, доставило бы известность изобретателю. Оно состояло из двух деревянных ящиков, около четырех футов длины, прикрепленных таким образом, что они уравновешивали друг друга; внутренность их, обитая мягкой материей и устланная коврами, была так устроена, что давала возможность хозяину сидеть там или же полулежать. Над ящиками расстилался зеленый навес. Приспособление это прикреплялось широкими спинными и нагрудными ремнями и подпругами с помощью бесчисленных узлов и веревочек. Вот каким образом изобретательные сыны Востока защищали себя от неудобств путешествия в выжженной солнцем пустыне, в которую их одинаково гонят и нужда и удовольствие.
Когда дромадер выбрался из последней закраины канавы, граница Ель-Бенка, древнего Аммона, осталась позади путешественника. Было утро. Впереди поднималось солнце, на половину скрытое клочковатым туманом; перед путником расстилалась пустыня. Но это не было еще царство сыпучих песков, ожидавшее его дальше; пока он проезжал по местности, где растительность только что начинала исчезать, где там и сям виднелись груды гранита и бурых и серых камней вперемежку с тощими акациями и клочками верблюжьей травы. Дуб и терновник остались позади: они как будто бы вышли на границу посмотреть на безводную пустыню и, пораженные ужасом, окаменели на месте. Вот уже исчезли следы всякой дороги. Становится заметнее, что верблюд кем-то невидимо управляется: он то замедляет, то ускоряет свои шаги; голова его протянута по направлению к горизонту; широкими ноздрями он жадно глотает свежий воздух. Палатка покачивается на его спине, поднимаясь и опускаясь, подобно челноку в волнах. Иногда под ногами шуршит сухая листва, скопившаяся во встречных впадинах, тогда воздух наполняется особенным специфическим благоуханием. Жаворонки, каменки и скалистый воробей вспархивают перед ним, а белые куропатки со свистом и клокотаньем убегают прочь с дороги. Изредка лисица или гиена поднимаются и убегают, чтобы издали посмотреть на нарушителя их спокойствия. Направо поднимаются высоты Джебеля; жемчужно-серый туман, окутывающий их, постепенно окрашивается в пурпуровый цвет, чтобы затем под лучами солнца стать еще очаровательнее. Выше самых высоких вершин его парит коршун, распластав свои широкие крылья и все расширяя и расширяя круги своего полета. Но ничего этого не замечал путник, сидевший в зеленой палатке, – так по крайней мере казалось; глаза его были устремлены в одну точку; он словно дремал. И человек и животное как будто повиновались чужой воле.
В течение двух часов дромадер все шел вперед, рысью, мерно раскачиваясь и держась одного направления, к востоку. За все это время путешественник ни разу не переменил своей позы, ни разу не оглянулся по сторонам. В пустыне расстояние измеряется не милями и не лигами[1], а часами или упряжками: три с половиною мили составляют первую меру, пятнадцать, двадцать пять – вторую; но это меры для обыкновенных верблюдов. Для настоящего же рысистого сирийского бегуна сделать три лиги ничего не стоит: пущенный полным ходом, он обгоняет ветер. Благодаря быстрой езде, картина местности скоро изменяет свой характер. Джебель виднеется уже на западе в виде бледно-голубой ленты. Там и сям начинают возвышаться кучи песка, смешанного с глиной. Кое-где базальты – эти передовые отряды, выпущенные горами на защиту себя от врага пустыни, – поднимают вверх свои округленные вершины; главным же фоном пейзажа становится теперь песок, то мягкий и тонкий, как на морском берегу, то в виде груд маленьких округлых камешков, то имеющий изменчивый вид волн, то насыпанный буграми. Вместе с ландшафтом изменяется и состояние атмосферы. Высоко поднявшееся солнце, досыта напившись росой и туманом, согревало теперь ветерок, который, забираясь под навес, ласкался к путнику; всюду, куда только мог проникнуть глаз, солнце окрасило землю в нежный, молочно-белый цвет и зажгло все небо.
Уже более двух часов верблюд все шел и шел, нигде не останавливаясь и не делая ни малейшего уклонения от своего направления. Растительность совсем исчезла. Песок, настолько спаявшийся на поверхности, что при всяком шаге с треском рассыпался на мельчайшие частички, сохранял повсюду однообразную, волнистую поверхность. Джебеля уже более не видно, и вместе с ним исчезли и всякие границы пустыни. Тень, гнавшаяся прежде позади, теперь потянулась на север и даже немного забегала вперед. Все еще не видать никаких признаков привала. Поведение путника становилось более и более загадочным. Разумеется, никто не избирает пустыню местом для увеселительных прогулок. Жизненные и деловые цели прокладывают по ней свои тропы, вместо украшений усеянные костями погибших существ. Таковы дороги пустыни от колодца к колодцу, от пастбища к пастбищу. Сердце самого закоренелого шейха бьется сильнее, когда он очутится один на бесследном пути.
Можно думать, что и тот человек, с которым мы имеем сейчас дело, очутился здесь не в поисках удовольствий; не похоже и на то, чтоб он убегал от кого-нибудь: ни разу он не оглянулся назад. В положении беглеца чувства страха и любопытства – весьма естественны; но не заметно было, чтоб они владели им. Люди в одиночестве снисходят, до товарищества с низшими существами: собака делается тогда товарищем человека, лошадь – другом, и им расточают ласки и слова любви. Нашему верблюду пока на долю не выпало ничего подобного: не только ласки, но даже и приветливого слова.
Ровно в полдень, как будто бы по собственной воле, верблюд остановился, издал особенный жалостный крик, скорее стон, которым верблюды обыкновенно протестуют против излишне наваленной тяжести, обращая тем на себя внимание; после чего происходит желаемая остановка.
На этот крик хозяин зашевелился, словно он только что проснулся. Откинув наверх занавес, он взглянул на солнце и долго внимательно обозревал местность, в которой находился, как будто бы желая убедиться, та ли это именно местность, какая ему нужна. Видимо удовлетворившись обзором, он испустил глубокий вздох и несколько раз наклонил голову, как будто бы хотел сказать этим: «наконец-то, наконец!». Немного спустя он сложил руки на груди, поник головой и тихо молился. Исполнивши обряд, предписываемый религией, он приготовился слезать. Из его гортани вылетел звук, без сомнения, знакомый еще и любимый верблюдами Иова: «ikh, ikh», – тот звук, который служит для верблюда знаком становиться на колени. Немного поворчавши, животное плавно опустилось. Тогда ездок поставил ногу на его гибкую шею и затем спустился на песок.
Глава II. Встреча
Теперь можно было подробно разглядеть фигуру путника, замечательно хорошо сложенного. Он был невысокого роста, но мощен. Ослабивши шелковый шнурок, поддерживавший кефию на голове, легким движением он отбросил назад бахромчатые края ее; при этом открылось его лицо, строгое, почти черное, как у негра, широкий, низкий лоб, орлиный нос, несколько приподнятые кверху внешние углы глаз, прямые, густые и жесткие волосы с металлическим отливом, падавшие бесчисленными прядями на его плечи, – все это давало возможность сразу определить его происхождение. Такой наружностью отличались фараоны и последний из Птолемеев; таков был и Мозраим, родоначальник египетской расы. Путник был одет в рубашку из белой бумажной материи с узкими рукавами, открытую спереди и расширенную до пят, с шитьем на воротнике и груди; поверх рубашки был накинут темный шерстяной плащ, носящий теперь странное название ава; верхнее платье длиннобортное, с короткими рукавами, на полушелковой, полушерстяной подкладке, отделанное темно-желтым кантом. На его ногах были сандалии, державшиеся с помощью ремней из мягкой кожи. Рубашка охвачена поясом. Но особенно заслуживало внимания отсутствие всякого оружия: не было даже той крючковатой палки, которой обыкновенно понукают верблюдов, несмотря на то что он был одиноким в пустыне, служащей приютом для леопардов, львов и людей, не уступающих по своей свирепости этим последним. По этому, по крайней мере, можно было судить о мирных целях его путешествия или же приписать его необыкновенной смелости, если не особому незримому покровительству.
Путник чувствовал онемение в своих членах от длинного и утомительного путешествия; он потирал руки, постукивал ногами и ходил вокруг своего верного слуги, который, закрыв светлые глаза, с видимым удовольствием и не торопясь, пережевывал уже жвачку. Незнакомец часто останавливался, защищал глаза рукою и напряженно всматривался в пустыню. Каждый раз после этого лицо его омрачалось хотя и слегка, но все-таки настолько заметно, что проницательный наблюдатель догадывался о причине: путник, очевидно, ожидал товарищей, с которыми, быть может, он заранее уговорился здесь встретиться. Это, несомненно, должно подстрекнуть жгучее любопытство узнать, какие обстоятельства могли привлечь его в место, столь отдаленное от всяких следов цивилизации.
Как ни казался путешественник огорченным, но, видимо, он продолжал еще верить в прибытие товарищей. Сначала он подошел к носилкам и, вынувши из ящика (противоположного тому, в котором он сам сидел во время дороги) губку и маленький кувшинчик с водой, он промыл глаза, морду и ноздри верблюду. Потом достал оттуда же сверток материи, с белыми и красными полосами, связку палочек и массивную трость. Последняя оказалась довольно остроумным изобретением: она состояла из нескольких маленьких палочек, вложенных одна в другую, которые по соединении образовали один длинный шест, выше роста человеческого. Когда шест был воткнут в землю и к нему были прислонены палочки, незнакомец натянул на них материю и очутился у себя дома. Импровизированный дом, уступавший по размерам жилищу какого-нибудь шейха или эмира, во всех других отношениях, однако, был их точным снимком. Таким же точно порядком появился и ковер или четырехугольный кусок кошмы, которым и была завешена дверь палатки от солнца. Исполнив это, путник вышел из палатки и еще раз, с особенной тщательностью и нетерпением во взоре, осмотрел окрестности. Вдали шакал перебегал равнину, в небе орел направлял свой полет к Аравийскому заливу. Вот и все, что представилось его взору. Затем пустыня и расстилающееся над ней небо были безжизненны.
Он вернулся к верблюду, произнося тихим голосом следующие слова: «Мы с тобой далеко от дома, мой быстроногий скакун, очень далеко, но с нами Бог: будем терпеливы!» Звук его слов странно раздался в пустыне.
Потом он, наложив из седельной сумки бобов в торбу, привесил ее к морде верблюда; полюбовавшись наслаждением верного слуги, он отвернулся и снова стал смотреть на пески, успевшие уже раскалиться под вертикальными лучами солнца: над ними реяла теперь полупрозрачная дымка.
– Придут, – сказал он спокойно. – Тот, Кто руководил мною, укажет и им дорогу. Нужно приготовиться.
Из внутренних отделений своего дорожного помещения и из ивовой корзинки, составлявшей тоже часть его багажа, он вынул принадлежности еды: блюда, сотканные из пальмовых жилок, вино в маленьких кожаных кувшинах, вяленую и копченую баранину, бескостные shami, или сирийские гранаты, ель-шилибийские финики, замечательно вкусные, возросшие в nakhil, или в пальмовых рассадниках центральной Аравии, сыр, подобный Давидовым молочным ломтикам, и квашеный хлеб, изделие городской пекарни. Все это он принес и уставил на ковре под сенью палатки. В заключение всех этих приготовлений он положил возле припасов три кусочка шелковой материи, употребляющихся на Востоке среди изысканного общества для того, чтобы во время стола закрывать колени. Число этих кусочков указывало на то, сколько людей будут разделять трапезу.
Теперь все было готово. Он вышел наружу. Но что это? На востоке показался темный призрак. Путешественник остановился, как бы прикованный к месту; глаза его расширились; мороз пробежал по коже, как бы при виде чего-то сверхъестественного. Призрак рос и приближался, принимая все более определенные очертания. Еще немного и, уже ясно видимый, двигался по пустыне двойник его верблюда – высокий, белый дромадер с носилками, употребляющимися у путешественников в Индостане. Тогда, египтянин сложил руки на груди и, подняв глаза к небу, воскликнул с благоговением: «Один только Бог велик!»
Новый незнакомец наконец приблизился и остановился. Казалось, что и он тоже теперь только проснулся. Увидав верблюда, склонившегося на колени, палатку и человека, стоящего, как будто бы на молитве, у дверцы палатки, он сложил руки, склонил голову и произнес молитву про себя; после чего он соскочил на песок с шеи своего верблюда и пошел навстречу египтянину. Одно мгновение они смотрели друг на друга; затем обнялись, то есть каждый из них, положив свою правую руку на плечо другого (левая оставалась при этом в покое), подбородком прикоснулся к груди другого, сначала с правой стороны, а потом с левой.
– Мир тебе, служителю истинного Бога! – сказал незнакомец.
– Тебе, мой брат по истинной вере, мир и привет! – страстно ответил ему египтянин.
Пришелец был высокого роста и худощав, со впалыми глазами, с сединой в бороде и на голове; цвет кожи его – средний между коричневым и бронзовым. Он также был безоружен. Костюм на нем был индостанский: поверх шапочки шаль, сложенная широкими складками, образовала тюрбан; костюм его разнился от одежды египтянина только тем, что ава у него был короче, обнаруживая широкие шальвары, подвязанные внизу. Вместо сандалий ноги его были обуты в полутуфли из красной кожи и с остроконечными носками. За исключением туфель, костюм его с головы до ног был из белого полотна. Вид его был величавый, благородный и строгий. Висвамитра, величайший из героев аскетизма восточной Илиады, имел в нем совершеннейшего представителя. Его можно было бы назвать жизнью, напоенной мудростью Брамы, воплощением благочестия. Одни глаза выдавали его человеческое происхождение: когда он поднял свое лицо от груди египтянина, на них блестели слезы.
– Один только Бог велик! – воскликнул он, когда они кончили обниматься.
– И да будут благословенны служители Его! – отвечал египтянин, дивясь, что предсказание, скрывавшееся в его восклицании, так скоро сбывалось. – Смотри, – прибавил он, – вон и другой едет.
Оба они посмотрели на север, где можно было уже вполне различить третьего верблюда, такого же белого, как и у них.
Они ожидали, стоя вместе до тех пор, пока новый пришелец совсем не подъехал, не слез с верблюда и не направился к ним навстречу.
– Мир тебе, брат мой! – сказал он, обнимаясь с индусом.
Индус отвечал:
– Да будет воля Господня!
Последний из прибывших совсем не походил на своих друзей: его стан был тоньше; цвет лица белый; масса волнистых светлых волос украшала его не большую, но красиво очерченную голову; теплота, светившаяся в его темно-синих глазах, указывала на присутствие в нем тонкого ума и на сердечную натуру. Он был без шапки и безоружен. Под грациозными складками тирского плаща виднелась туника с короткими рукавами и низким воротником, подпоясанная на талии лентой; она едва достигала ему до колен, оставляя шею, руки и ноги его обнаженными. Ноги обуты в сандалии. Пятьдесят лет, а может быть и более, пронеслось над его головой, не оставив на нем, по-видимому, никакого следа, за исключением, быть может, того, что с летами вся фигура его приняла оттенок важности и он стал скупее на слова, тщательнее обдумывал то, что ему приходилось говорить. Физический же организм и чистота души остались неприкосновенными. Нет нужды говорить читателю о его происхождении; если не сам он, то, во всяком случае, предки его вышли из тенистых афинских рощ. Когда он отнял свою руку от египтянина, последний произнес дрожащим голосом: «Дух привел меня сюда первым; поэтому я считаю себя избранным быть слугой моих братьев. Палатка растянута, и хлеб готов для преломления. Дозвольте же мне исполнить свой долг».
Взяв каждого из них за руку, он повел их внутрь палатки, снял там с них сандалии, вымыл им ноги, полил воды на их руки и отер их полотном.
Затем, вымывши и свои руки, он сказал:
– Позаботимся о себе, братья, как этого требует наше служение; будем есть и подкрепимся для исполнения того, что нам предстоит в остаток дня. Во время же еды мы познакомимся друг с другом: узнаем, откуда каждый из нас пришел, кто он таков и как его зовут.

