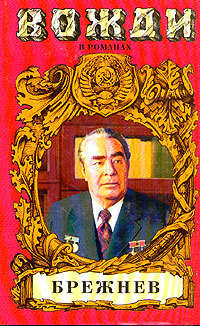
Число зверя
Прошла еще одна ночь накануне срока, и он, еще не открыв глаз, ощутил рядом присутствие постороннего; это был кто то не просто чужой. Явился тот, кто должен был явиться и кого столько времени ожидали. Потек хороший запах белых грибов, – отец Арсений высунул голову из под своего жиденького укрытия и увидел рядом с кострищем сидящего старца, слегка подсвеченного язычком пламени, по деревенски просто и бедно одетого, – слабые блики огня играли у него на лице. Он сидел к отцу Арсению боком, в каком то нескладно топорщившемся на нем пиджачке и в разношенных яловых сапогах. Отец Арсений видел его большой, мясистый нос и длинную, чуть ли не до пояса, белую бороду. Время только только повернуло к рассвету, и от слабого пламени костерка темнота вокруг становилась непроницаемее и чернее. «Он сам, что ли, разжег огонь, – подумал отец Арсений с легкой, радостной дрожью предчувствия. – Древний человек, ему лет за сто, а он один по ночным лесам шастает, ни зверя, ни лихого злодея не боится».
Отец Арсений выполз из шалаша и приблизился к огоньку, – ему навстречу поднялись зоркие, совсем не старческие глаза, и в этих глазах, давно уже потерявших счет дням и годам, пробилась неопределенная улыбка, хотя это вполне мог быть всего лишь отсвет смутного пламени.
– Садись, человек, говорят, в ногах правды нет. А где же она тогда? Правда наша? Садись, – пригласил старец более настойчиво. – Садись к свету Божьему…
Сдержанно, в предвкушении предстоящего, отец Арсений поклонился и опустился на трухлявую валежину, – он сам отыскал ее в лесу и пристроил у костра.
Пошевелив прутиком угольки, старец как то сразу, всеми своими бесчисленными морщинами и узелками, опять кротко улыбнулся, кустистые брови дрогнули, приподнялись, шире открывая потеплевшие, древние и ясные глаза.
– Детишки малые бегают, бегают, сороками стрекочут, – сказал он, и его тихие, словно легкие вздохи ветра, слова вновь заставили отца Арсения еще больше насторожиться. – Бегают, бегают, балаболят – сидит, говорят, мужик, сидит сычом, весь оброс волосьем, страшный, говорят. Траву дикую ест, водой из ручья захлебывает, больше ничего у него нету, говорят. Дай, думаю, схожу, наведаюсь, погляжу на птицу небесную… Схожу проведаю…
– Сам то ты кто, старик? – спросил отец Арсений. – Годов то тебе с избытком. Ночью, в такой темени, не боишься…
– Меня сон не берет, вот уж кой год не берет, бывает, и месяц, и два ни в одном глазу. Я туг рядом, из соседней деревни, дед Тимоха, меня каждая кочка, каждая колдобинка далече округ знает. Сыны, дочки давно повымерли, внуки да внучки, почитай, тоже, а я вот все хожу, все жду… Ох, порой тяжко становится, – все так же тихо пожаловался собеседнику ночной старец.
– Мне думается, вы совсем не тот дед Тимоха из соседней деревни, – вслух подумал отец Арсений и, тотчас по мгновенному взгляду старца поняв, что не ошибся, продолжал с некоторым вызовом: – А если вы тот самый дед Тимоха, то сколько же ныне лет вам набежало?
– А вот этого я, мил человек, не считал, зарубок не делал, – не спеша отозвался старец. – Бог сам знает, а другим ни к чему. Божья премудрость особая статья – каждому свое вершить, оно так выпало – кому пахать да сеять, а кому и хлебушко в закрома ссыпать. Вот ты, видать, за живой водой приплелся, все свое кинул и притолокся, невмочь тебе стало, нутро огненное, грешное надо остудить, в свой ум назад возвернуться. Я от ребятни сразу все в толк взял. А может, не то говорю?
В его голосе прозвучала необидная укоризна.
– То говоришь, то, – заторопился отец Арсений, страдая и радуясь. – Так, лесной старец. Скажи, правду ли говорят о живой, солнечной воде, дающей и зверю, и человеку, и всякому злаку, и древу радость и смысл жизни?
– Люди много чего говорят, на то они и люди, – не сразу отозвался старец, и легкое облачко набежало на его древний лик. – Что они могут знать? Лес знает много, земля еще больше, а вода знает все, ей, водичке, ведомо и человечье, и небесное, Божье. А эта вода и вовсе опасная, – он слегка повел головою в сторону ключа. – Слыхал я в молодую пору от старых людей вещее слово, не всякому оно сказывается, не всякому и ложится на душу, вызревает в полную силу. Да так оно и правильно. По всякому бывает, и недобрый, злой для земли человек может услышать недозволенное злому слово, вот оно так и устроено, из черного человека вещее слово тут же и выветрится, во всю жизнь ему не вспомянется, как и не бывало его. Да и опасное оно, вещее слово, для черной души.
– Да чем же опасное? – спросил отец Арсений, пытаясь нащупать в рассуждениях старца главное для себя.
– Не торопи, не торопи, мил человек, сказано – всему свой срок. – Старец опять пошевелил ивовым прутиком в костерке, и хотя там не было больше сушья, а была одна зола да затухающие угольки, огонек опять весело и резво поднялся над кострищем, лесная темень отодвинулась, и на свет потянулись мохнатые темно сизые лапы старых елей. – Не торопи, человек, Семин день подойдет, все и узришь. В Семин день, как солнышко край покажет, вода в ключе и становится живой, выходит из нее дитя – отрок, вот тут его чудная сила на коня и возносит, уносится он в Божью даль. Ты и карауль, сразу успей из под конских копыт водицы испить, пока стрельчатый конь не оторвался от воды. Трижды сначала перекрестись, помолись да попроси благодати, а то не попасть бы в обочину, костей не соберешь…
– О чем ты рассуждаешь, ночной старец, что за обочина такая? – сказал отец Арсений, чувствуя кружение сердца и с недоумением вглядываясь в огонек костерка, продолжавший гореть как бы из ничего, – бледное непрерывное пламя струилось, казалось, из сероватой золы с редкими золотинками угольков, – время от времени старец помешивал их своим прутиком. – Недаром ты явился, прошу тебя, говори до конца.
– Ну, человек, мудрствовать тут особо нечего, закон такой, – сказал старец. – Закон живой воды – высокий закон! Кто ее отведает, живой воды, в Семин день на самом возгорании солнышка Отца нашего небесного, тот, будь он хоть кто, хоть татарин, черемис какой, жидовин или другой иноверец, тот на всю жизнь преображается в воителя за Русскую землю, за Русскую веру и обретает оттого неисчислимость врагов на свою выю. Зато, в награду ему, навсегда входит в его душу любовь к Русской земле, а это не всякому по плечу. Ох, человек, тяжкая это, претяжкая ноша! И то становится известно высоким мужам, определенным Богом на управительство Россией. До супостата Петра Алексеевича все они, и Александр князь, прозванный затем Невским, и князь Димитрий, ставший Донским, да и князь Иван Лютый и батюшка Петра супостата царь Алексей Михайлович, – все они тайно побывали здесь на родничке, испили живой водицы в Семин день, когда отрока на коня садят. А вот Петр Алексеевич здесь не бывал, и после него никого не было – боятся присохнуть к Русской земле, живот за нее положить. А уж эти супостаты, Ленин да Сталин, да вот теперь Никитка Хрущ, мужицкий царь вроде Емельки Пугачева, эти богонепотребные и вовсе, как черт от ладана, от русского света шарахаются, темным силам свои поганые души продали, вот и длятся гибельные времена… Где это видано, Никитка Хрущ, шут гороховый, слышно, бабе своей вертихвостке Крым подарил! Не уподобился глотнуть из родничка, что ему Русская земля! А все нечестивцы, что пугливо обошли святой ключик, будут прокляты, и прах их с потомством вместе развеется в беспамятстве и позоре…
– Чудное ты говоришь, Божий старец, они про то и не слыхивали сроду… Откуда им знать? – усомнился отец Арсений, все больше и больше проникаясь мягким светом любви и печали. – Да и что за люди? Так, бродячая нечисть, вынюхивают, высматривают, ждут часа, а затем клыками в горло. Откуда им знать?
– Знают, им каждому перед восшествием тайный знак дается, – вздохнул лесной старец. – Не восчувствуют, страхом звериным объяты, тут же в беспамятство впадают, а значит – все такие от сатанинского племени. Запечатлено в тайных подземельях вод многое. В свой срок хотела наведаться сюда жена пресветлая, древних славянских корней… Стала затем императрицей российской – Екатериной, вот тебе баба, а не испугалась, Божьей благодати уподобилась жена. Только и она до самого тайного не была допущена, нельзя сие бабьему роду. Грешна до непотребства была, а Русскую землю изрядно прирастила, простит ей Господь все ее плотские соблазны, не согрешишь – не покаешься.
– А ты, лесной старик, все пошучиваешь, – сказал отец Арсений, ведомый нехорошей силой противоречия и обиды. – Русская земля! Да разве такая где нибудь осталась? Сколько я прошел из конца в конец, в Сибири был, на Урале, студеный север весь исходил, а Русской земли нигде не встретил, нигде…
– Зачем тебе было столько ходить, неугомонный? – холодно удивился старец. – Да ты, странник, и сам еще весь этот русский разлад и разор увидишь, он еще у тебя по сердцу пройдет. За особую судьбу и плата особая, высокая. Ищущему откроются двери и тайны небесные.
– Какое мне дело до царей, прежних и нынешних? – вновь не удержался от своей тоски отец Арсений. – Мне бы свое обрести! Отрока бы, дитя светлое увидеть, может, обновился бы состав души, узрел бы я истину подлинного служения миру… Если можешь, мудрый старец, помоги!
– Помогу, – просто и тихо согласился ночной гость. – Жди Семина дня. Отрока узришь, чашу свою изопьешь. Затем и возрадуешься, человек.
– Чему?
– Рассвету Божьему, заря уже поспешает, торопится, – ответил старец, поднял глаза, и отец Арсений замер – стародавняя тьма стала высачиваться и уходить из мрака его души. От какого то нечеловеческого и радостного ужаса он словно окаменел и не мог шевельнуть ни одним членом. Глаза ночного старца чудно ожили и заиграли неизъяснимо, они стали прозрачными и бездонными, наполнились особой чистотой и вечностью жизни, и не глаза человека теперь это были, а некий неиссякаемый родник, неудержимо втягивающий и растворяющий в себе, и отец Арсений чувствовал, что не может противиться и исчезает в его течении, – вся воля у него была отъята.
И тогда он испытал последний искус жизни – перестал быть собой и переселился в другой, высший источник. И в самое последнее мгновение успел узреть высоко, до самого неба ударившее пламя костра, загудевшее широко, мощно, привычно рванувшееся в свою небесную колыбель. И опять таки всего на одно мгновение соткался и проступил Божественный и светлый лик отрока, еще совсем дитяти, и этот отрок приветливо и призывно улыбнулся отцу Арсению, которого тотчас перенесло к источнику всех вод, и он увидел все, что ему должно было узреть, – и отрока, и уносящего его коня, и вышедший из за пределов земли край играющего солнца.
– Семин день! Семин день! – зашелестело вокруг в окрестных лесах и отдалось в распахнувшемся небе, и отец Арсений схватил глоток живой воды, и горячий вихрь, вырвавшийся из под копыт коня, поднял его, опрокинул и ударил о землю. И тогда свет ушел из глаз отца Арсения.
3
Сколько он ни тасовал спрессованную годами совместной борьбы, засаленную, потертую и тяжелую, пропитанную кровью колоду карт, всякий раз выпадало одно и то же – лучшего кандидата, кроме этого удачливого, ровно и уверенно поднимавшегося все выше и выше южанина, пожалуй, и сейчас пока не видно: анкета превосходная, есть изрядная примесь цепкой и привычной еврейской крови, жена тоже из того же племени, смотрит на него, свое чудо, снизу вверх, как на икону, как это и повелось на Востоке издревле, в высшие сферы не лезет, раз и навсегда определила для себя главное – муж, дети, семья, родственники. Баба и баба, по бабьи умна, не в свое дело вторгаться не будет. Ничего не скажешь, действительно умна – до сих пор держит суженого на длинном поводочке, пусть, мол, бегает себе, пока бегается, от здорового мужика не убудет.
Лежа в темноте и вперив бессонные глаза в потолок, Михаил Андреевич ощутил и некоторое облегчение, – кажется, на этот раз бессонная ночь не прошла даром, даже, по каким то предварительным признакам, самые ключевые фигуры остались весьма довольны переменами. Всем надоели хамство, мат, дикая непредсказуемость – сегодня кок сагыз, завтра кукуруза. А Крым? Эта его мужицкая бычья натура, напористость, испугался еврейской нацеленности на Крым, на древнюю Тавриду. Хотя почему только он? Разве один он? Такая уж случилась расстановка сил: малейшее дуновение – и Крым свалился бы в нежные объятья Сиона, а завтра, послезавтра и присоединился бы к государству Израиль, вошел бы в него по референдуму или опросу, может быть; Хрущев не Сталин с его восточной эквилибристикой в политической борьбе. Дорогой Никита Сергеевич, этот топорный или, скорее, лапотный политик, выплясывающий при Сталине на ночных пирушках гопака, оказался на этот раз проницательнее других, хохлацкий колбасный инстинкт его не подвел, Но самый сокровенный смысл, опять таки, в ином – недавний шут, потешавший грозного властелина и умевший так искусно играть, что даже сам дьявол в лице Сталина ничего не замечал, вполне вероятно, все таки не выдержал, захотел реванша, и здесь промедление было недопустимо. По примеру своего недавнего беспощадного господина и кумира, он в первую очередь мог смести ближайшее окружение, опять бы начался разброд в международном движении, опять – внутренние шатания и гул недовольства. Нет, нет, пронеслось в бессонном мозгу Михаила Андреевича, все мы ответственны перед историей, все мы обязаны припомнить заповедь вождя революции о нерушимом единстве партии, о незыблемости коллегиального руководства партией и государством…
Губы Михаила Андреевича растянулись в долгой усмешке, – цену своим мыслям он понимал, как никто другой, он прошел долгий, полный пропастей и хитроумных ловушек путь, невесомой тенью проскальзывал минными полями не только у Ежова, Ягоды и Берии, мастеров высшего класса; он проскальзывал мимо цепкого, пронизывающего насквозь взгляда самого Сталина, – обочинкой, обочинкой, и вот результат. Тонкие губы Михаила Андреевича вновь дрогнули в усмешке. Государство можно строить разными способами, можно и так, как бы стоя в сторонке, издали вкладывая свою ролю в нужный момент, свои мысли и планы в чужую, пусть даже слишком много мнящую о себе голову. И пусть себе мнит на здоровье, это никому не мешает и ни к чему не обязывает, – пусть себе мнит, что это ее собственные мысли, был бы лишь необходимый стране и обществу прогресс, результат, и пусть наслаждается видимой своей властью, – таким образом горы можно своротить. Что ж, бывают и промахи, ну, вот как было с тем же Никитой Сергеевичем, не предприми именно он сам, серый кардинал, как его шепотом величают даже ближайшие и самые доверенные сотрудники в туалетах и под одеялом у жен и любовниц, определенных шагов, не разыграй сложнейшую шахматную партию. И вообще, если бы не это, не видать бы уважаемому Никите Сергеевичу первого места как своего затылка, а вот поди тебе, как это первое место выявляет истинную суть человека… Сразу из него дурь и полезла, дурак дураком, и это мое, и это тоже мое, и это я съем, да вон и до того доберусь, а если не осилю, то хотя бы надкушу, чтобы другим не досталось. Вызывал общее недовольство, по мужицки всем хамил, за свои унижения в прошлом норовил расквитаться, компенсировать свою неполноценность. Надо думать, несколько опоздал наш неистовый новатор и реформатор, топорная работа давно завершена, он свое дело сделал раньше, надо полагать, а теперь в свой срок и ушел, когда оказались необходимы более тонкие государственные кружева – с семнадцатого года успела народиться еще одна волна этой вечно недовольной, вечно хнычущей интеллигенции, ищущей в отбросах жизни свое жемчужное зерно, да и последняя война подбросила в характер народа своих загадок. В политическую жизнь пришло время мастеров высочайшего класса, способных, как говорилось раньше, подковать блоху.
Повернувшись на другой бок, Михаил Андреевич попытался заснуть, даже подтянул длинные сухие ноги к самому подбородку, но мозг не отключался, работал безостановочно, и тогда он каким то шестым или десятым чувством опять ощутил приближение кризисного, критического момента, – такое провидческое состояние охватывало его в самые трудные минуты, когда вокруг, в самых нервных точках партийной и государственной машины, накапливалось предельное количество разнополюсного электричества и нужно было принять срочное, безошибочное решение, предотвратить вот вот готовую грянуть катастрофу, и, самое главное, нужно было суметь действовать так, чтобы об этом его знании и последующих вскоре иногда парадоксальных поступках никто бы даже и не догадывался. Все должно было вершиться естественно и просто, как итог вызревшего и материализующегося коллективного мнения…
Тут Михаил Андреевич почувствовал, что мозг у него начинает раскаляться; он с досадой плюнул, зажег свет, надернул пижаму и, попробовав входную дверь в кабинет – заперта ли она изнутри, не забыв взглянуть и на опущенные шторы на окнах, прошел к встроенному в стену и снаружи замаскированному под стеллаж с книгами большому сейфовому шкафу и открыл его. Здесь хранилось самое заветное и самое бесценное – его личная картотека, вобравшая в себя судьбы десятков, сотен и даже тысяч людей, от которых, в свою очередь, зависели судьбы многих государств и народов, в конечном итоге – и путь самого человечества, его будущее. Человек может исчезнуть, просто умереть, раствориться в земле, превратиться в горстку пепла и бесследно развеяться даже легким порывом ветерка, но его дела, его слабости, пороки и прегрешения, его порой ужасающе бездонные страсти и преступления продолжают оставаться, если умело их использовать, оружием огромной силы. Мертвые цепко держат в своих объятьях живых, может быть, это и метафизика, но в идейной, политической борьбе, во имя победы приходится не очень то скромничать, в большой политике все средства хороши, если они ведут к цели. И политику делают все таки единицы, избранные, это высочайшее наслаждение, доступное немногим, познавшим вкус власти, навсегда сладко отравленным ею.
Михаил Андреевич некрасиво поморщился; он знал о своем недостатке – уходить в трудные моменты, в решающие минуты в абстрактные головоломки, хотя также твердо знал, что любые, большие и малые дела на земле решаются гораздо спокойнее и проще и подчас самыми приземленными и даже порочными реалиями.
Он быстро нашел необходимое, небольшую серовато дымчатую папку, открыл ее и стал перебирать содержимое. И хотя он знал его наизусть, он опять долго и внимательно стал рассматривать фотографии, откладывая одну за другой и тотчас возвращаясь к ним вновь. Иногда взгляд его становился столь напряженным и пронзительным, что на плотной глянцевой бумаге словно сами собой начинали проступать и разрастаться ранее не замеченные, но теперь сразу становившиеся важными, сразу выходящие на первый план подробности. В глаза все настойчивее лезли широкие густые брови, явный признак непомерного тщеславия и честолюбия, и в то же время говорившие о стремлении жить в свое удовольствие, об умении все неприятное и тяжелое перекладывать на других; крупные сильные губы и подбородок, а также мягкий и неопределенный, как бы несколько загадочный взгляд указывали на другую крайность – любвеобилие и самонадеянность в амурных делах.
Михаил Андреевич неодобрительно вздохнул.
«Бабник, бабник, юбочник, кобель и блядун первостатейный, – определил он про себя с некоторой долей понятной мужской зависти. – И сейчас еще никак не утихомирится, и здесь, в Москве, потихоньку пошаливает. Надо признаться, все делает умно, с оглядкой, умеет не засветиться – большой опыт. Что ж, пожалуй, подобное легкомыслие и неплохо, пусть себе потешается, пока может, меньше будет в другом присутствовать, в том, где он мало что смыслит. Да нет, здесь я вроде бы не ошибся».
Вокруг простиралась притихшая Москва, ночь, тишина, и Михаил Андреевич, складывая все назад в немудреную папочку и завязывая ее, в какой то момент позволил себе вспыхнуть, швырнуть эту папочку на стол и замереть, слегка вытянув худую жилистую шею, как бы к чему то прислушиваясь, – он просто еще раз проверял себя, еще и еще вдумывался в мельчайшие извивы задуманной комбинации, и с какой бы стороны ни подступался к ней, изъяна нигде не нащупывалось, и он входил все в больший творческий экстаз. Оставаясь где то далеко в стороне, невидимым для других, он творил сейчас свой особый мир, и краски в создаваемой им картине ложились густо и расчетливо, группы и фигуры располагались уверенно и прочно, уравновешивая и изолируя друг друга, – искусство тайной власти именно и заключалось в незыблемом равновесии, нити от которого должны сходиться в одной тайной руке, в одном силовом центре, хотя на данный момент главное заключалось именно в безошибочном подборе центральной фигуры, которая устроила бы большую часть верхушки, в умении с самого начала безошибочно распределить противоборствующие силы и поставить центральную фигуру в постоянную от них зависимость, – именно она никогда не должна была получить возможность абсолютной свободы.
И тогда гений Михаила Андреевича воспарил еще выше. Перед ним словно на рельефной карте проступила и расстановка сил во всем мире, его цепкая память тотчас выделила наиболее опасные зоны и тенденции, концентрацию особо враждебных сил, все более в последние годы активизирующихся, начинающих все плотнее придвигаться к границам страны и с запада, и с юга, да и на востоке, где русская дипломатия работала всегда тончайшим скальпелем, осторожно и не торопясь, только из за этого дуролома Никиты все было сдвинулось и пришло почти в хаотическое состояние…
«Нет, нет, – вновь сказал себе Михаил Андреевич, – мы находимся на верном пути, на самом перспективном направлении. Кто же еще больше, если не он? Сведения точные, все подтверждается – бабник, страстный охотник, в меру пьяница. Везунчик невероятный, всю жизнь везло, как то незаметно для других, необидно везло – шел вверх, не бросаясь никому в глаза, следовательно, и не вызывая опасной зависти. Как раз то, что нужно… И после войны в Днепропетровск попал в самый раз, когда главное уже завершалось, знаменитая гидростанция, по сути дела, была восстановлена, и оставалось только скромно отрапортовать да продырявить пиджак для нового ордена… Нет, нет, пожалуй, именно этот везунчик всех устроит, выбирать больше не из кого, да и ждать больше нельзя, опасно ждать – история не простит».
Новый молниеносный поворот мысли заставил Михаила Андреевича сойти с горних высот и предельно сосредоточиться, – теперь он окончательно убедился, что замысел был верен, и в нем не хватало, может быть, лишь одной единственной запятой, не хватало самой малости, но такой, что без нее невозможно было запускать всю огромную и сложную политическую машину. Вместе с определением центральной фигуры необходимо было наметить и определить и его тайного двойника, его неразлучную тень, человека безжалостно расчетливого, способного ждать своего звездного часа годами и даже десятилетиями, неутомимого охотника, дыхание которого зверь чувствовал бы за собой неотступно. И такой человек появился, не мог не появиться, он уже есть. Сердце у Михаила Андреевича стиснулось, приостановилось и вновь забилось спокойно и ровно – он их увидел воочию, жертву и ее палача, зверя и охотника, уходящего от погони и непрерывно преследующего, увидел далеко далеко, и ему самому стало непривычно хорошо и покойно.
«Зачем?» – послышался ему чей то посторонний и незнакомый голос. Ни один мускул в его лице не шевельнулся, только губы еще более затвердели, и затем странная холодная усмешка осветила его глаза. Инстинкт власти непреоборим, так же, как зов крови или безумие продолжения, – никаких вопросов на этом пути не существовало.
Над Москвой струился холодный осенний рассвет, а на лице у Михаила Андреевича ярче и ярче становились глаза – небольшие, загадочные и непроницаемые, способные в моменты наивысшего напряжения загораться фанатическим огнем, пугавшим даже самых близких к нему людей скрытой энергией и предвещавшим неожиданные ходы и повороты в судьбах многих людей.
4
С известным академиком Игнатовым, человеком очень редкой породы, в послевоенные годы начавшей активно восстанавливаться и размножаться, Суслова связывали давние и довольно двойственные отношения, – академик, сам того не подозревая, являлся для Михаила Андреевича неким сложнейшим и безошибочным прибором, определяющим степень давления именно в той среде, которую Михаил Андреевич, как всякий неофит, тайно и безапелляционно ненавидел, никогда не показывая этого, – он вынужден был с нею считаться, иногда даже заискивать перед нею, рассыпаться мелким бесом, хотя в душе иронически подхихикивал над детской самовлюбленностью и наивностью большей частью действительно известных и заслуженных людей, мнящих себя солью земли. Они, каждый в своей области, многое знали и многое могли, но они всякий раз преувеличивали свое значение в общем прогрессе, много шумели и требовали, и к ним нужно было относиться как к детям, им надо было уметь и любить обещать и не скупиться подбрасывать кое что из обещанного. Они тотчас успокаивались и начинали двигать вперед науку и культуру.
Вы ознакомились с фрагментом книги.

