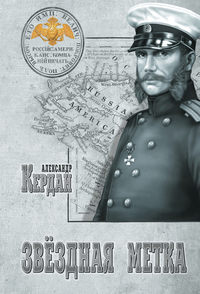
Звёздная метка
Пробиться к Некрасову на этот раз Панчулидзев не смог. Старший Краевский, спасая почётного гостя от возбужденных почитателей, вскоре увёл его, Тютчева и Панаевых в свой кабинет.
Остальные участники утренника разделились: часть отправилась по домам, другие потянулись к буфету, намереваясь продолжить общение в компании с Бахусом.
Панчулидзев дружески попрощался с Евгением Краевским и пошёл к выходу. В парадном он неожиданно столкнулся с давешней девицей.
Девица с помощью слуги надевала просторный доломан. Она кокетливо улыбнулась и спросила как ни в чём не бывало:
– А вы и в самом деле – князь?
Панчулидзев растерялся от такой бесцеремонности и столь неприкрытого кокетства. При этом он снова отметил про себя, что девица чрезвычайно привлекательна и гармонично сложена. Ещё не определившись, как ему вести себя с нею, он сказал сдержанно и с достоинством:
– Да, я – князь Панчулидзев. С кем имею честь говорить?
Девица ответила не сразу. Она задумалась, смешно наморщив лоб, сразу сделавшись похожей на капризную девочку:
– Странно, князь, мне кажется, я слышала вашу фамилию прежде… Да, да, где-то слышала… – она помолчала одно мгновение и тут же простодушно задала новый вопрос:
– Скажите, а откуда вы родом, князь?
Панчулидзев набычился: «У этой барышни определённо есть способность выводить людей из себя».
– Позвольте, сударыня, это выходит за всякие рамки. Кто вы сама такая? У вас есть какое-то имя? Я не привык говорить, не зная, с кем имею дело, – как можно суровее и назидательнее проговорил он.
Она, словно и не заметила его недовольства, грациозно сделала книксен:
– Зовите меня мадемуазель Полина, – и безо всякого перехода попросила: – Проводите меня, ваше сиятельство, коль скоро мы уже знакомы…
Панчулидзев машинально кивнул, даже не успев удивиться собственной сговорчивости. Спохватившись и вспомнив то, что говорила девица в зале, он добавил всё ещё сурово:
– Извольте, мадемуазель, но при одном условии – мы не станем говорить ни о какой политике…
Она задорно рассмеялась:
– Боюсь, что о политике говорить у нас с вами и в самом деле не получится. Ну, полноте, не дуйтесь на меня, князь, за мои давешние слова. Я согласна и принимаю ваше условие… Хотя, как известно, дамам условия не ставят…
Они вышли на Литейный проспект и направились в сторону Невского.
Полина болтала без умолку, но, как ни странно, её беспрерывное щебетанье не вызывало в Панчулидзеве былого раздражения.
Ярко светило солнце. В небе ни ветерка, ни облачка. Всё говорило о том, что стылая, ветреная зима уже позади, что вот-вот набухнут почки, округа расцветёт и заблагоухает в преддверии чудесных белых ночей…
– Я вовсе не имею ничего против господина Некрасова, – объясняла она. – Напротив, сплав некрасовской поэзии кажется мне необычайно крепким и своеобычным. Он удивительно многогранен: рядом с сюжетной реалистической балладой – исповедь, тут же – фельетон, который хоть сегодня публикуй в ежедневной газете. Послушайте, как это современно:
Грош у новейших господВыше стыда и закона;Нынче тоскует лишь тот,Кто не украл миллиона…Наш идеал, – говорят, –Заатлантический брат:Бог его – тоже ведь доллар!Правда! Но разница в том:Бог его – доллар, добытый трудом,А не украденный доллар…– Вы знали эти стихи прежде, князь?
Панчулидзев отрицательно покачал головой.
Полина затараторила дальше:
– Ах, как это точно и справедливо сказано: доллар, добытый трудом, а не украденный доллар! Нам учиться, учиться всему надо у Северо-Американских Соединённых Штатов. Там не только упразднили рабство, но и все, буквально все умеют деньги зарабатывать…
Панчулидзев поморщился, не разделяя столь бурные восторги, но Полина была поглощена своими рассуждениями:
– А знаменитая американская Декларация независимости, а их билль о правах – это же настоящая конституция! Ах, какой прогресс! Ах, как нам не хватает чего-то подобного… – тут она осеклась, вспомнив обещание не заговаривать на политические темы, но поскольку Панчулидзев не проронил ни слова, продолжала: – Вы уже слышали, князь, что в Кронштадте ждут американскую военную эскадру? Вы знаете, что президент Эндрю Джонсон направил к нам своих моряков с дружественным визитом?..
Она резко остановилась, повернулась к нему. Её серо-зелёные глаза с тёмной окантовкой и золотистыми вкраплениями вокруг чёрных зрачков как будто светились изнутри. Панчулидзеву почудилось, что он тонет в них, словно в южном, прогретом море.
Полина довольная произведённым эффектом, улыбнулась краешками припухлых губ и попеняла:
– Ах, князь да, вы вовсе ничем не интересуетесь. Неужели вы и «Что делать?» Чернышевского не прочли?
– Отчего же, прочёл, – очнувшись от грёз, ответил Панчулидзев. – Как помнится, публикация в «Современнике» с третьего по пятый сборник шестьдесят третьего года…
Полина спросила с явным вызовом:
– И каков же ваш суд?
– Мне показался сей роман изрядно схематичным и заурядным с точки зрения художественных достоинств… Нечто вроде прокламации… – Панчулидзев говорил спокойно, хотя при одном упоминании о творении ссыльного Чернышевского на него, как всегда, накатило раздражение, как от столкновения с чем-то вредным и даже постыдным.
Тут Полина вспыхнула и дала полную волю своему негодованию. Она выпалила, что Панчулидзев ничего не понимает в высокой словесности, что ему надобно больше читать книг, подобных книгам Чернышевского, и что такие люди, как он, Панчулидзев, и являются главным препятствием на пути всего отечественного прогресса и процветания.
В гневе она была ещё красивей. Панчулидзев опять, к своему удивлению, не рассердился на неё.
Тем временем они вышли на Невский проспект. Здесь на разъезде поджидал пассажиров синий двухэтажный вагон конки – новшество, появившееся в столице всего пару лет назад. Стены вагона пестрели рекламными щитами – ещё одно нововведение.
Полина тут же забыла о Чернышевском и продекламировала:
– Конка, конка, догони цыплёнка! Давайте прокатимся, князь! – она первой впорхнула в вагон и мимо кондуктора стремительно направилась к винтовой лестнице, ведущей на «империал» – верхнюю галерею.
– Барышня, куды-с? Дамам и девицам, особливо на гарелею, нельзя-с! – возопил седоусый кондуктор. Он растерянно вытаращился на Панчулидзева, ища у него поддержки, – других пассажиров в вагоне не было: – Господин хороший, что ж это деется? Это ж коробит все чувства благородной скромности и стыда-с!
Полина уже проделала половину пути наверх. Панчулидзев успел разглядеть краешек нижней кружевной юбки, мелькнувший из-под подобранного подола платья, и высокий башмачок со шнуровкой, туго облегающий стройную щиколотку.
Он сконфузился и протянул кондуктору двугривенный, что в два раза превышало оплату проезда двух пассажиров на нижнем ярусе и в три раза – на «империале».
– Это вам. Извините, бога ради, – пробормотал он, опуская глаза.
Кондуктор мигом подобрел, но проворчал для порядку:
– Всё одно, не положено-с… – он смерил Панчулидзева прищуренным взглядом. – Эка артуть-девка!..
Панчулидзев прошёл к лестнице и взобрался наверх. Полина встретила его победным возгласом:
– Мы, женщины, не согласны быть существами второго сорта! Мы сумеем постоять за свои права!
Панчулидзев ничего не сказал, вздохнул, подумав, что на сей раз он расплатился за женскую эмансипацию последним двугривенным, а до дня получения пенсиона ещё неделя. Впрочем, досадовать на сумасбродную и такую независимую Полину у него просто не осталось сил.
Щёлкнул кнут кучера. Раздался крик: «Поберегись!», и конка медленно тронулась. Колёса загремели на стыках, и Полина пустилась в философские рассуждения о месте женщины в современном обществе, о необходимости скорейшего завершения в России самых кардинальных реформ в экономике и образовании, подобных тем, что давно уже проведены на Западе.
Панчулидзев слушал её в пол-уха, с деланным равнодушием взирая по сторонам. Невский в этот послеполуденный час был малолюден: по нему не спеша прогуливались дамы в сопровождении горничных, пробегали курьеры, с осознанием собственной значимости быстрым шагом двигались чиновники для поручений. На перекрёстках, завидев приближающуюся конку, выкрикивали предостережения для пешеходов «махальщики» – служащие коночного парка, специально заведённые после участившихся случаев наезда на прохожих.
Время от времени Панчулидзев бросал взгляд на Полину и тут же отводил глаза, чтобы не выдать невольное восхищение. Когда же их взгляды пересекались, Панчулидзеву казалось, что между ним и Полиной возникает тот самый электрический магнетизм, о котором сообщили миру знаменитый француз Ампер и его английский собрат Фарадей. Это ощущение было для него незнакомым, необычным. Чувствовала ли Полина какую-то симпатию к нему, он не знал. Она по-прежнему держалась независимо и порою даже надменно.
– Надобно всюду устроить артели, о которых писал господин Чернышевский в своей книге. В коллективном свободном труде – залог спасения России… – разглагольствовала она. – И, конечно, необходима конкуренция, как в той же Северо-Американской конфедерации…
Панчулидзев вспомнил недавно прочтённую им рецензию Чернышевского на письма американского экономиста Кэрри и, воспользовавшись мгновением, когда она переводила дыхание, вставил реплику:
– Мадемуазель, вы всё время тычете меня своим кумиром, а он вовсе не такой уж поклонник Америки, которая, и на мой взгляд, совсем не идеал.
– Не бывает идеала без слабостей… – тут же отпарировала она.
Конка тем временем проехала перекрёсток Невского и Садовой с популярной ресторацией Немечинского на углу. Вдруг одновременно с традиционным возгласом кучера: «Поберегись!» раздался истошный женский крик, конку тряхнуло, она прокатилась ещё несколько сажен и остановилась.
Полина потеряла равновесие и упала бы, если бы Панчулидзев, сам едва удержавшийся на ногах, вовремя не схватил её за талию и не прижал к себе. Она тут же мягко, но решительно отстранилась, привычным движением поправила шляпку:
– Что там стряслось?
Покрасневший Панчулидзев, свесился вниз и спросил кондуктора:
– Любезный, что случилось, почему стоим?!
– Кажись, задавили кого-то-с, господин хороший… Третий случай, почитай, в энтом месяце… – кондуктор сдернул фуражку и перекрестился: – Господи помилуй, упокой новопреставленную рабу твою!
Панчулидзев растерянно проговорил:
– Отчего же новопреставленную? Ведь ещё, может, жива!
Кондуктор только рукой махнул.
Панчулидзев распрямился и сказал Полине:
– Мадемуазель, очевидно, случилось несчастье. Я спущусь, посмотрю.
– Я с вами, князь, – голосом, не терпящим возражений, сказала она.
Он помог ей спуститься с галереи. Через заднюю дверь они вышли из конки. У передней двери вагона уже собрались зеваки. Слышались возгласы:
– Ах, какой ужас! Такая молодая…
– Лекаря бы позвать…
– Куда там лекаря… Пополам перерезало…
Громко оправдывался кучер:
– Я же кричал ей, чтоб поостереглась. Я ж тормозил… Вон, чуть оглобли не вывернул да пасти коням не порвал…
Панчулидзев, раздвигая столпившихся обывателей плечом, протиснулся поближе. Из-за спин краем глаза он увидел торчащую из-под колеса неестественно вывернутую белую ногу несчастной, обутую в лапоть, да тёмную, растекающуюся по булыжникам лужу.
Он с трудом выбрался из толпы, и взгляд его упёрся в рекламный щит на стене вагона. На нём были намалёваны большие куски мяса, горой лежащие на прилавке, а над ними здоровенный мясник в кожаном переднике, с плотоядной улыбкой и сверкающим тесаком в волосатой руке. А ниже подпись: «В лавке на Садовой, в доме 37, всегда в изобилии свежая говядина черкасской породы, потроха свиные по пятидесяти копеек за пару, воробьиные тушки по пяти копеек за каждый десяток…»
Панчулидзев судорожно сглотнул, пытаясь справиться с подступившей тошнотой.
– Вам лучше этого не видеть, – проговорил он и потянул Полину на тротуар.
Они медленно пошли по проспекту. Оба молчали. Полина время от времени бросала на Панчулидзева внимательные взгляды.
Они вышли к Неве. Свежий ветер принёс запах водорослей и рыбы.
– Сегодня такой странный день. Столько всего произошло… – произнесла она неожиданно: – Я не хочу сейчас идти домой. Хочу посмотреть, где вы живёте, князь…
Панчулидзев сделал приглашающий жест и повёл спутницу к Дворцовому мосту. При этом он как будто перестал ощущать реальность происходящего. Полина шла, опершись на его руку, притихшая и какая-то отстранённая. И в то же время он чувствовал, что между ними растёт и крепнет, словно между заговорщиками, та незримая связь, которую ощутил, стоя на империале.
День и впрямь был странный, непредсказуемый. Ещё несколько часов назад он и предположить не мог, что в его жизнь ворвётся такая необычная девушка, что они будут вот так, вдвоём, словно влюблённые, идти по городу. И уж совсем не мог он подумать, что безмолвно согласится повести её в свое скромное жилище, никак не вяжущееся с громким титулом, который он носил. Впрочем, бедность и честь, как когда-то учил его отец, это – вполне совместимые понятия. Особенно в эпоху, когда бесчестье становится нормой…
В глубоком молчании они перешли по наплавному мосту на Васильевский остров, свернули на Кадетскую набережную и двинулись вдоль Большой Невы, мимо здания старой таможни, университета, ректорского дома и манежа первого кадетского корпуса. Дойдя до Первой линии Васильевского острова, они очутились на пустыре, где полным ходом шли земляные работы по закладке Румянцевского сада. Завидев их, бородатые мужики, очевидно, из числа недавно приехавших в столицу безземельных крестьян, оставляли лопаты, снимали шапки и кланялись. Полина кивала им и ласково улыбалась.
За пустырём начиналась Вторая линия, на пересечении которой с Большим проспектом и стоял доходный дом вдовы купца первой гильдии Громова – Агрипины Фёдоровны. Здесь Панчулидзев арендовал три комнаты на последнем, четвёртом, этаже.
Они подошли к парадному подъезду. Полина, не дожидаясь, пока Панчулидзев откроет дверь, решительно шагнула вперёд и потянула ручку на себя. Панчулидзев покорно, как агнец, идущий на заклание, последовал за ней. По счастью, в парадном в это время не оказалось швейцара. Вообще-то, подъезд был предназначен для жильцов бельэтажа. Постояльцы «бедных», верхних, этажей поднимались к себе по лестнице со стороны «чёрного хода». Но для Панчулидзева хозяйка, имевшая почтение к титулам, сделала исключение. Он, впрочем, этой поблажкой прежде не пользовался, предпочитал входить и выходить в своё временное жилище незаметно. К тому же одним из непременных условий домовладелицы – дамы если не богобоязненной, то желающей прослыть таковой, был полный запрет на посещение жильцов какими бы то ни было женщинами. Панчулидзев до нынешнего дня это условие соблюдал безукоризненно.
По ступеням, покрытым ковровой дорожкой, они поднялись на второй этаж. Здесь у дверей апартаментов дорожка обрывалась. Полина выжидательно посмотрела на Панчулидзева, словно спрашивая, какая из квартир его. Он молча обогнал её и двинулся дальше наверх. Лестница здесь была без ковров, но чисто прибрана и освещалась настенными керосиновыми лампами. На третьем этаже она венчалась площадкой, с которой несколько дверей вели к квартирам победнее, а одна – на лестницу «чёрного хода». Панчулидзев распахнул эту дверь. Здесь было совсем темно. Он подал Полине руку и провёл её на свой этаж.
По длинной гулкой анфиладе, тускло освещаемой двумя масляными фонарями, они прошли к его квартире. Панчулидзев долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Отворив дверь, он пропустил гостью вперёд.
В квартире было полутемно. Полина сразу прошла к окну, выходящему в колодец двора и почти не дающему света, и посмотрела вниз. На фоне окна ему хорошо была видна её гибкая, ладная фигура.
Он очнулся не сразу. Зашуршал спичками.
– Не надо лампы, – не оборачиваясь, сказала она. – Нынче я останусь у вас…
2На следующее утро Панчулидзев проснулся позже обычного, счастливый и опустошённый. Полины рядом не было.
Панчулидзев накинул халат и прошёлся по комнатам. Глянул на стол в прихожей в тайной надежде обнаружить записку. Полина исчезла, растворилась, как некий фантом. Только витающий в воздухе запах жасмина, сандалового дерева и ванили – аромат её духов «Букет императрицы» свидетельствовал, что прошедшая ночь ему не приснилась.
Наполненный сладкими воспоминаниями, Панчулидзев поначалу не подумал о том, что ничего не знает о ней: ни фамилии, ни адреса…
Впрочем, это грустное обстоятельство пришло ему в голову позже, после неприятного разговора с хозяйкой.
Агрипина Фёдоровна Громова, похоже, караулила его у дверей столовой, устроенной ею для своих небогатых постояльцев на первом этаже. Они столкнулись, когда он спустился к завтраку.
Громова некогда была довольно красивой женщиной. Настолько красивой, что и овдовев, постарев, продолжала считать себя таковой. Она одевалась пышно и чрезмерно ярко, сурьмила брови и подкрашивала волосы. Панчулидзев заметил, что такие дамы в возрасте обычно любят покровительствовать молодым литераторам и художникам, устраивают какие-то музыкально-литературные салоны, а то и просто сдают одиноким постояльцам комнаты внаём – лишь бы продолжать оставаться в центре мужского внимания.
Он вежливо раскланялся и собрался пройти мимо, но Громова, обычно приторно ласковая с ним, на этот раз выглядела сурово.
– Я не ожидала от вас, ваше сиятельство, подобного неприличия, – поджав губы, процедила она.
– О чём вы, сударыня? – спросил он, покраснев, и оглянулся по сторонам. По счастью, в столовой в этот час они были одни.
– Вы знаете, князь, не в моих правилах вникать в частную жизнь моих постояльцев, но… – в её голосе сквозила неподдельная обида, – но я не допущу превращения моего дома в дом для свиданий.
Панчулидзев пролепетал:
– Сударыня, менее всего я желал оскорбить ваш дом. Сие недоразумение больше не повторится… Обещаю…
Удовлетворившись его сконфуженным видом, она пожелала ему приятного аппетита и гордо удалилась, шурша кринолином.
Завтрак встал ему поперёк горла. И даже не от нелепого объяснения с Громовой, а оттого, что стало вдруг очевидным: то, что с ним случилось этой ночью, в самом деле может никогда не повториться.
«Ара махсовс…»[9] – в минуты волнения сами собой приходили на ум грузинские слова, слышанные в детстве от отца – князя Александра. Панчулидзев с ужасом осознал, что и впрямь не помнит, говорила ли ему Полина, кто она, где живёт и где вообще её можно будет найти…
Панчулидзев долго сидел, отложив вилку. Потом, так и не притронувшись к кофе, встал из-за стола, быстро поднялся к себе, надел плащ, фуражку и отправился в город в надежде нечаянно встретить Полину.
Весь день до сумеречной поры, когда фонарщики уже зажгли фонари, шатался он по пустеющим улицам, всматриваясь в лица прохожих и в проезжающие экипажи. Всё напрасно.
И на следующий день поиски не увенчались успехом. И на третий…
Панчулидзев посчитал, что обязательно найдёт Полину там, где они встретились впервые – на литературных утренниках у Краевского. Увы, и здесь его ждало разочарование – ни весной, ни в начале лета к Краевским Полина больше не приходила.
Панчулидзев не находил себе места: плохо спал, похудел, чем вызвал нешуточную тревогу госпожи Громовой, взявшейся тут же его усиленно подкармливать, как она высказалась, в счёт будущих литературных гонораров. Громова искренне верила в его литературное дарование, хотя он лишь однажды обмолвился, что написал повесть и отнёс её к Некрасову.
Но не зря утверждают французы: «Mais cela passera»[10]…
Не то чтобы чувства к Полине исчезли вовсе или он напрочь позабыл её, но острота боли от разлуки с нею притупилась, он стал относиться к её исчезновению как к свершившемуся факту. Да и сам её образ стал размываться в памяти, приобретать всё более нереальные черты. Однако Панчулидзев всё-таки ещё надеялся, что они встретятся вновь. Бывая на публике, он привычно искал её взглядом, угадывая в других барышнях её милые черты, гибкую и ладную фигуру.
Этим летом ему много довелось бывать на публике.
Первого июля открылся на Невском новый каменный Гостиный двор. Почти одновременно распахнул свои ворота для посетителей Таврический сад, ставший сразу же излюбленным местом для прогулок петербуржцев. А ещё через месяц в городе появились те самые американцы, о которых упоминала Полина, – капитан Фокс, посланник конгресса Североамериканских Штатов, со свитой и эскадрой. Они прибыли, чтобы поздравить Государя Императора с избавлением от руки убийцы, и были восторженно приняты русским обществом. Газета Краевского «Голос» от 30 июля 1866 года писала, что Фокс привёз уверения в искренней дружбе от всего американского народа, что «союз Соединённых Штатов и России представляется совершенно естественным и необходимым». Потом, в середине сентября, вся столица ликовала по поводу приёма в Царском Селе датской принцессы Дагмары – невесты наследника престола великого князя Александра Александровича. Состоялась пышная помолвка…
Впрочем, все эти важные церемонии почти не затронули душу Панчулидзева, прошли стороной. Тем паче вскоре случилось событие, разом перевернувшее всю его дальнейшую жизнь.
Шестнадцатого сентября в час пополудни служитель гальванического отдела Николаевского вокзала вручил ему депешу из Саратова.
Панчулидзев вскрыл телеграмму и прочёл: «Дорогой брат прискорбием сообщаем матушка наша княгиня Варвара Ивановна почила в Бозе…»
Строчки запрыгали у него перед глазами. Он присел на стул, опустил руки и долго не находил в себе силы прочесть до конца сообщение, которое боялся получить уже давно: матушка последние лет пять тяжело болела…
Старший брат Михаил и сестры Софья и Нина извещали его, что несчастье случилось 14 сентября, а похороны назначены на 17-е…
«Вот она, наша хвалёная цивилизация… – с горечью подумал Панчулидзев. – При всех новейших её изобретениях: телеграфе и паровозе я получил депешу слишком поздно, не успею проститься с матушкой…»
Он вдруг воочию представил, как, закрыв глаза Варваре Ивановне, по-стариковски нескладно засуетился Фрол – последний слуга в родительском имении, которое, как и его хозяйка, дышало на ладан. Как он запряг в бричку износившегося конягу Серко и потащился в Аткарск, где заседателем уездного суда служил брат Михаил Александрович. Как теперь уже засуетился брат: отдав Фролу необходимые указания, на перекладных помчался в губернский город, где жили с мужьями сёстры. Как там отправил курьера с депешей на ближайшее отделение телеграфа в Рязань, дабы её переслали оттуда в Москву, а затем в Санкт-Петербург Панчулидзеву…
Мысли о том, сколь непрост был путь трагического известия к нему, как ни странно, придали Панчулидзеву сил. Он собрал необходимые для дороги вещи. Известил Громову, что уезжает по семейным обстоятельствам, сохраняя квартиру за собой. Необходимые деньги у него были в наличии. Но Громова, узнав о причинах его отъезда, заохала, всплакнула и наотрез отказалась взять задаток, пообещав, что будет ждать такого достойного квартиранта, сколько бы ни потребовалось. Панчулидзев поблагодарил её, откланялся и отправился на Николаевский вокзал.
В кассе купил билет до Москвы и через полупустой зал прошёл на перрон. Вдохнул горький, пропахший дымом, железом и мазутом воздух.
Синий вагон второго класса оказался справа от входа в вокзал.
Бодрый, молодцеватого вида кондуктор, посмотрев билет, проводил Панчулидзева в купе. Панчулидзев уселся на жёсткий диван, обтянутый новой, дурно пахнущей кожей, и стал смотреть в окно, мечтая об одном – чтобы у него не оказалось попутчиков.
По перрону мимо него в сторону вагонов первого класса прошла разряженная барыня в сопровождении лакея в ливрее с позументами, следом, сгибаясь под тяжестью багажа, просеменил артельщик[11]. Прошёл железнодорожный служитель с недовольным, перекошенным лицом, в форменной фуражке, из-под которой торчали грязные спутанные космы. Он то и дело нагибался к колёсам и стучал по ним молоточком на длинной рукояти. Металлический стук всякий раз отзывался в сердце Панчулидзева тупой болью. Наконец колокол ударил третий раз, засвистел кондуктор, взвизгнул паровик и состав тронулся.
Как раз в этот момент в купе вошёл пожилой толстый господин в импозантном котелке, только входившем в моду. Он сухо поздоровался с Панчулидзевым и уселся напротив, развернув газету, всем видом, показывая что к разговорам не расположен. Это обстоятельство несколько успокоило Панчулидзева, и он снова уставился в окно.
Вагон, равномерно вздрагивая на стыках рельсов, прокатился мимо платформы, водокачки, серых привокзальных строений, мимо стоящих в тупике других вагонов: жёлтых, синих, зелёных…
Вскоре из-за туч показалось солнце. Оно высветило купе и золотые перелески, убранные поля за окном. Покачивание вагона постепенно сделалось плавным, стук колес – ритмичным. Панчулидзев вскоре забыл о попутчике и стал думать о своём.

