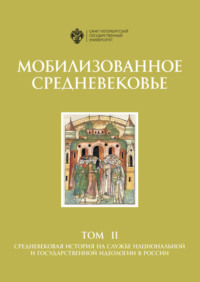
Мобилизованное Средневековье. Том II. Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России
По сравнению с советской эпохой сейчас происходит настоящий медиевальный бум, в городах ставят сотни памятников средневековым персонажам, снимают фильмы, устраивают бугурты реконструкторов, создают компьютерные игры и т. д. Но этот процесс выглядит интенсивным только по сравнению с предыдущими эпохами. Например, за XIX и XX столетия в Российской империи и СССР было поставлено около 20 памятников средневековым персонажам, а за последние 20 лет – более 400. В фантастической литературе романы о так называемых «попаданцах» (персонажах, попадающих в другие временны́е пласты), построенные на конструировании альтернативной истории России, сюжеты, связанные с «переписыванием» истории, начиная с Древней Руси и в особенности с периода Ивана IV и Смутного времени, являются одними из наиболее востребованных. В большей части таких произведений будущее перестраивается таким образом, чтобы избежать ошибок и исторических травм Нового времени, «исправить» историю России в соответствии с современными запросами[23].
Правда, если брать все поле исторической памяти, то медиевальные сюжеты намного уступают по востребованности сюжетам об истории XX в., в частности об эпохе последнего российского императора Николая II, о Первой мировой войне, Гражданской войне и еще больше – о Великой Отечественной войне и советском времени. Актуальное поле исторической политики в современной России – это история последних десятилетий Российской империи, СССР и 1990-х гг.[24] По сравнению с ними русский медиевализм отходит на второй план.
Все вышеназванные сюжеты и тенденции мы постараемся осветить и проанализировать на страницах второго тома нашей книги об исследовании медиевализма в Центрально-Восточной Европе и на Балканах. Он целиком посвящен России в географических рамках Российской империи, СССР и постсоветского пространства (в исследование мы не включили Кавказ, Сибирь и Среднюю Азию как регионы со своей спецификой, которую невозможно изучать вне азиатского контекста, а это тема отдельной самостоятельной работы). Понятно, что охватить абсолютно все сферы и примеры проявления медиевализма в рамках одной книги невозможно, поэтому мы попытались выявить наиболее важные тенденции и в рамках case studies рассмотреть их проявления.
Тема является практически неизученной – русский медиевализм почти не был предметом научного рассмотрения. Его историография насчитывает сравнительно немного работ[25], хотя литература, посвященная формированию мифов о тех или иных персонажах и событиях русских Средних веков, достаточно обширна[26]. Действительно, в основном к интересующей нас историографической традиции можно отнести труды, которые посвящены освещению тех или иных средневековых сюжетов глазами современников и потомков, хотя авторы при этом не обращаются к методологии медиевализма. Издавались документы[27], в частности, существовавшего в начале XX в. Общества возрождения художественной Руси[28]. Изучалась семантика культурных символов, идущих из Средневековья и получивших применение в культурных контекстах Нового времени[29]. Разумеется, помимо литературных текстов, в сферу внимания историографии попадает широкий круг иных источников формирования памяти (и аспектов политики памяти) о Средневековье в Новое и Новейшее время – церковные практики и атрибуты (церковные месяцесловы[30], иконы[31], церковное пение[32], практики канонизации[33]), историческая живопись[34], гравюры[35], памятники народного искусства[36], памятники историописания[37], монументальная скульптура[38], практики реконструкторского движения[39], коммеморации[40], телевизионная продукция[41], русский стиль в архитектуре[42] и др. Некоторые исследования относятся скорее к культуральной истории и связаны с конкретными объектами исторической памяти. Проблемы русского медиевализма затрагивались в рамках изучения политики памяти, исторической политики, но редко были объектами специального и тем более монографического изучения.
Среди монографий можно выделить изучение истории трансформации на протяжении нескольких эпох образа Валаамского монастыря в книге финского историка К. Парппей[43] и ее же исследование образа Куликовской битвы[44]. Следует упомянуть монографию А. С. Ищенко, в центре внимания которой – фигура Владимира Мономаха[45]. Феномен славянского фэнтези и использование славянского метасюжета в современной культуре проанализированы в книге К. М. Королева[46]. Многочисленные тексты посвящены практикам мобилизации памяти о других героях русского Средневековья – Владимире Святом[47], Александре Невском[48], Сергии Радонежском[49], Иване Грозном[50] и др. Однако такого рода работы можно отнести к историографии, которая получила образное определение «раскрошенной», с ее локальными мало сопоставимыми задачами, методами и исследовательскими горизонтами[51].
Авторы еще раз, как и в первом томе, выражают благодарность прежде всего Российскому научному фонду, благодаря поддержке которого это исследование стало возможным. Кроме того, необходимо еще раз выразить признательность Санкт-Петербургскому государственному университету, в котором выполнялись научные работы, а также коллегам, своими советами и добрыми замечаниями, уберегшими нас от ряда ошибок и сомнительных высказываний. Неоценимую помощь оказали Т. В. Буркова, А. Ю. Прокопьев (СПбГУ), П. В. Седов (Санкт-Петербургский институт истории РАН), Г. Ф. Матвеев (МГУ), И. М. Кудрявина (Издательство СПбГУ). Хочется также поблагодарить коллег, которые оказали большую техническую поддержку проекту в процессе его реализации: Д. Ю. Хваткову, В. А. Чикину, А. С. Шишкову, И. Г. Андрееву, Е. И. Зубкова, Е. Ю. Клецкову, Н. А. Ефимову, О. А. Абеленцеву. Особые слова благодарности адресованы С. С. Смирновой. Книга была закончена только благодаря ее терпению и помощи.
Настоящая монография является коллективным трудом. Общее научное редактирование осуществлялось А. И. Филюшкиным. Авторы разделов и параграфов указаны в оглавлении.
Согласно издательской практике, которой придерживается Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, в именной указатель не внесены фамилии авторов, упоминаемые исключительно как часть библиографических описаний, размещенных в сносках.
Глава I
Медиевализм до медиевализма: этногенетическое послание средневековой Руси
Еще не зная употребления букв, народы уже любят Историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней Героя… И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.
Н. М. КарамзинИсторическое воображение древнерусского летописца и «origo gentis». Между «Византийским содружеством» и «младшей Европой»
Изучение становления древнерусского историописания в сравнительно-исторической перспективе позволяет выявить в древнейшем памятнике русской исторической мысли «Повести временных лет» (ПВЛ)[52], помимо элементов книжного знания, пришедшего из Византии, те формы исторического воображения, которые находят показательные аналогии в трудах чешских, польских, скандинавских и англо-саксонских хронистов[53]. Помимо универсальности стиля воображения социальной реальности в широких рамках средневекового христианского мира (pax Christiana)[54], нельзя не отметить и важный факт цивилизационной открытости ранней Руси, ее восприимчивости к культурным влияниям. Они приходили не только из Византии, откуда было воспринято христианство, но и – в не меньшей, а то и в большей степени – из стран Северной и Центральной Европы[55]. Они принадлежали, подобно Руси, к той части христианской ойкумены, которая, не испытав прямого влияния античных традиций, сохраняла в своем социокультурном ландшафте архаичные черты «варварской Европы»[56]. Этот общий социокультурный фундамент Центральной, Восточной и Северной Европы, восходящий ко временам варварской архаики, не только существенно облегчал культурные контакты между странами, но и заметно сглаживал на этом пространстве постепенно формировавшиеся цивилизационные различия между pax Orthodoxa и pax Romana[57].
Давно замечено, что раннесредневековые Чехию, Венгрию, Польшу, как и скандинавские страны, сближала между собой принадлежность ко второму эшелону европеизации, то есть почти одновременное приобщение этих стран к христианской вере и сформировавшимся к тому времени на западе Европы социально-политическим институтам. В отличие от «варварских королевств» готов, франков, лангобардов и т. п., начавших складываться во фронтирной зоне Римской империи еще в V–VI вв., новые христианские государства Центральной и Северной Европы формировались несколькими веками позже на границах христианских держав, объявивших себя преемниками Рима – «Римских империй» Каролингов и Людольфингов, хотя сами механизмы взаимодействия варваров с имперскими структурами при этом являлись весьма схожими[58]. Для обозначения соответствующей группы молодых христианских государств некоторыми историками стал использоваться термин «младшая Европа»[59], где под Европой понимается именно западная цивилизация – pax Romana. Связям Руси со странами «младшей Европы» в период христианизации должна была немало способствовать и относительная синхронность протекавших в этих странах процессов политогенеза, в ходе которых нельзя исключать и прямого трансфера технологий политического строительства: так, в современной историографии отмечается, что сформировавшаяся в 980–990-х гг. «держава Владимира»[60] имела организационную структуру, весьма сходную с устройством ранних государств Центральной Европы, в первую очередь Чехии, где подобная структура появилась несколькими десятилетиями ранее[61].
Русь, связанная со странами «младшей Европы» общим социокультурным фундаментом, отличалась от них тем, что христианство было воспринято ею не с Запада, а из Византии, из Византии же пришел и сопровождавший христианизацию «культурный пакет». Это обстоятельство традиционно представляется многим историкам достаточным для включения Руси в другую культурно-цивилизационную общность, получившую в историографии название «Византийское содружество», введенное Д. Оболенским[62]. Между тем степень культурной византинизации была на Руси несоизмеримо меньшей, нежели в классической стране «Византийского содружества» – Болгарии[63], а интенсивность контактов с латинской Европой, особенно с ее обозначенной выше «младшей» частью, напротив, весьма высока[64]. Памятуя об условности обоих понятий – «Византийского содружества» и «младшей Европы», – необходимо, однако же, принимать во внимание те соображения, которые позволяли серьезным исследователям ими оперировать. В этом смысле нахождение Руси на своего рода перекрестке «Византийского содружества» и «младшей Европы» способно многое объяснить в специфике древнерусской культуры домонгольской эпохи.
Все сказанное сохраняет свою актуальность и при обращении к такой сфере культуры, как историописание, которое, как специально отмечается в современной историографии, формируется на Руси и в славянских странах латинской Европы не только синхронно[65], но и в схожих – нарративной и анналистической – формах. Отмечая это последнее обстоятельство, исследователь древнерусского летописания А. А. Гиппиус подчеркивает, что «раннее киевское летописание, в обоих образующих его началах, не вписывается в византийскую культурную парадигму; при этом оно обнаруживает принципиальное сходство с западно- и центральноевропейской историографией. Ничего удивительного в этом нет. В целом ряде других социокультурных параметров Киевская Русь конца X–XI вв. точно так же сближается не с Византией, а с молодыми христианскими государствами средней Европы – Чехией, Венгрией, Польшей, скандинавскими странами»[66].
Древнейшим этапом формирования русской исторической традиции, как считают многие исследователи, было создание текста, в котором описывались деяния первых русских князей до Владимира (980–1015) включительно. В историографии этот текст принято именовать «Древнейшим сказанием» или «Сказанием о первых князьях». Впоследствии, согласно авторитетной схеме развития летописания, восходящей к исследованиям А. А. Шахматова, древнейшее русское историческое сочинение времен Владимира и/или Ярослава Мудрого вошло в состав летописного свода, созданного в 1070-х гг. в Киево-Печерском монастыре (так называемый «Никоновский свод»), и – в составе последнего – в так называемый Начальный свод 1093 г., текст которого, согласно А. А. Шахматову, отразился в Новгородской первой летописи младшего извода (НПЛмл). Именно Начальный свод, в соответствии с данной схемой развития русского летописания, стал основным источником сведений о русской истории для автора ПВЛ – произведения, созданного в 1110-х гг.[67]
Облик и содержание «Древнейшего сказания», которое по некоторым прикидкам могло быть создано еще на исходе правления Владимира, реконструируется, по понятным причинам, сугубо гипотетически. Исследователи согласны в том, что погодная датировка событий здесь еще отсутствовала. Вместе с тем, вопреки распространенному мнению, что повествование, организованное в погодную сетку, появилось лишь на исходе XI в., на этапе составления Никоновского или Начального свода, в последнее время были выдвинуты весомые аргументы, что оно появилось уже в правление Ярослава Мудрого, то есть более или менее синхронно с возникновением анналистической традиции в Чехии и Польше[68].
Продолжающаяся в современной историографии дискуссия об этапах историописания, предшествовавших составлению ПВЛ, ничуть не меняет того обстоятельства, что сама по себе ПВЛ является целостным произведением, связанным единым замыслом[69]. Каково бы ни было происхождение отдельных пластов информации, задействованных в ПВЛ для объяснения происхождения русского народа и русского государства, ее автор предстает перед нами не бездумным компилятором, а глубокомысленным историком, сумевшим, используя разнородные данные, дать свой, ставший убедительным для многих поколений русских людей ответ на вопрос, откуда есть пошла Русская земля. Несомненно, что именно искусность и профессионализм, при помощи которых летописец справился с этой задачей, предопределили доверие к летописной версии начала Руси со стороны историков даже в период формирования критической историографии, хотя, казалось бы, сам факт временной дистанции между текстом начала XII в. и описываемыми в нем событиями IX–X вв. должен был серьезно насторожить позднейших историков, пытавшихся разобраться в началах русского народа и государства. Как заметил по этому поводу А. П. Толочко, предпринявший попытку реконструировать раннюю историю Руси, максимально дистанцировавшись при этом от летописного повествования, «ни в какой другой области наука не оказалась так зависима от летописной повести, как в суждениях о возникновении Киевского государства»[70].
Попытки проникнуть в творческую лабораторию древнерусского историка, создавшего столь убедительную картину «начала Руси», предпринимались в науке неоднократно. Оставляя в стороне сугубо текстологические изыскания, обратим внимание на те исследовательские результаты, которые напрямую относятся к проблематике исторического воображения и его взаимосвязи с этническим дискурсом. Начать здесь следует с самого общего наблюдения, что ПВЛ демонстрирует принципиальное сходство с памятниками раннесредневековой западноевропейской (в широком смысле) историографии, повествующими об истории варварских народов из локальной («национальной») перспективы. Произведения такого жанра, являвшие собой или включавшие в себя в качестве ключевого элемента «рассказ о происхождении народа» («origo gentis»), появлялись на протяжении Средневековья в разных странах «старшей» и «младшей» Европы от Остготского королевства VI в. (Кассиодор Сенатор) до Дании XIII в. (Саксон Грамматик). На этом фоне своеобразие начального русского летописания, по удачному определению А. А. Гиппиуса, состоит «в том, что на Руси эти общие “невизантийские” принципы реализовались в литературной среде, в целом ориентированной на византийские образцы и модели»[71]. Замечая, что на раннем этапе формирования исторической традиции главным, если не единственным, таким образцом были кирилло-мефодиевские переводы библейских текстов, исследователь констатирует дальнейшее обращение русских летописцев к специфическим византийским моделям, называя этот процесс византинизацией первоначальной основы русского летописания[72].
Совершенно очевидно при этом, что византинизация не сводилась к одним лишь заимствованиям тех или иных элементов книжного знания. Одним из главных следствий этого процесса явилось представление истории Русской земли в характерной для византийской хронографии и апокалиптики «имперско-эсхатологической»[73] перспективе. Наиболее ярко следование этой перспективе выразилось в привязке «начала Русской земли» к началу правления византийского императора Михаила III (842–867 гг.), ошибочно отнесенному в НПЛмл к 854 г., а в ПВЛ – к 852 г. Основывавшаяся на заимствованном из византийского хронографа известии о походе народа русь на Константинополь (случившемся, как известно, в 860 г. и закончившемся крещением новоявленных варваров патриархом Фотием) эта хронологическая привязка была нужна летописцу не просто для определения исходной точки русской истории – прежде всего она позволяла вписать новый варварский народ в историю универсальной христианской империи.
Этому имперско-эсхатологическому видению истории народа русь, которого, по мнению Гиппиуса, придерживался прежде всего автор отразившегося в НПЛмл Начального свода, исследователь справедливо противопоставляет так называемое «космографическое введение» ПВЛ, в котором дана широкая панорама этнической истории Восточной Европы, говорится о расселении разных славянских групп, включая киевских полян, а корни единого славянского народа прослеживаются до времен сыновей Ноя[74]. Отразившаяся в этой части ПВЛ артикуляция славянской этногенетической традиции действительно контрастирует с описанной выше империоцентричной оптикой, максимально сближая в этом плане русскую летопись с классическими европейскими произведениями жанра «origo gentis». Вместе с тем не стоит забывать, что мотивы, весьма характерные для европейских «origo gentis» и «origo regni», обнаруживаются не только в летописном рассказе о происхождении славян, но и в таких общих для НПЛмл и ПВЛ сюжетах, как история об основании Киева тремя братьями Кием, Щеком и Хоривом, служившая в том числе целям исторической репрезентации полянской общности, и, конечно, рассказ о призвании трех варяжских князей – событии, положившем, согласно летописцу, начало образованию Русской земли.
Присутствие элементов двух вышеобозначенных подходов в одном и том же источнике, будь то реконструируемый на основе НПЛмл Начальный свод или ПВЛ, разумеется, не является чем-то странным, но, напротив, естественным образом отражает генезис русского исторического сознания на пересечении двух существовавших практик структурирования прошлого, которые условно могут быть определены как имперская универсалистская и этноцентрическая практики. В то время как первая практика была целиком и полностью заимствована из Византии, генезис второй более сложен и до конца не ясен. Здесь могли сказаться и влияние византийских источников, нередко в тех или иных целях проявлявших внимание к варварам и описывавших их историю на манер античной этнографии, и культурные импульсы из стран латинской (особенно «младшей») Европы, и, наконец, общие социокультурные корни раннесредневекового кельтско-германско-славянского варварского мира, способствовавшие продуцированию в разных его частях схожих форм социального знания[75]. Осознавая всю сложность и гетерогенность этноисторических воззрений русского летописца, сфокусируемся лишь на тех сюжетах ПВЛ, которые обнаруживают наибольшее сходство с теми матрицами исторического воображения, которые реализовывались в средневековых текстах жанра «origo gentis».
«Origo gentis Sclavorum»
Одной из наиболее важных черт картины мира автора ПВЛ, справедливо отмечаемой многими исследователями, является его ярко выраженное славянское самосознание, сопряженное с представлением о славянах как о едином народе, имеющем общее происхождение и общую историческую судьбу[76]. На страницах ПВЛ это представление летописца отразилось прежде всего в так называемом космографическом введении, содержащем подробный и красочный рассказ о происхождении и древнейшей истории славян, а также в тематически связанной с ним летописной статье 898 г., где повествуется о создании Кириллом и Мефодием славянской письменности[77].
При этом необходимо сразу отметить, что славянское самосознание, столь ярко проявившееся на страницах ПВЛ, никоим образом не являлось случайным эпизодом, порожденным западничеством или, напротив, греческой ученостью летописца, а было вполне естественным порождением его социального знания, сформировавшегося в условиях реально существовавшего на момент создания летописи культурного единства христианского славянского мира. Говоря о культурных связях Руси со славянскими землями, следует особо выделить интегрирующую роль кирилло-мефодиевского наследия, в первую очередь старославянского языка, способствовавшего формированию общего культурного пространства[78]. Неслучайно облик христианской цивилизации ранней Руси демонстрирует значительное сходство с тем, что в X–XI вв. наблюдалось именно в тех странах, которые унаследовали культурную традицию Великой Моравии, то есть в первую очередь в Чехии и Болгарии. Так, на Руси получила широкое распространение славянская письменность (не только кириллица, но и глаголица[79]), пользовался особым почитанием св. Климент Римский[80], культ которого был характерен, в частности, для Чехии (где он утвердился вследствие кирилло-мефодиевской миссии), сложился культ святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, находящий ближайшую аналогию в чешском культе св. Вацлава[81], почитавшегося также и на Руси[82]. В 996 г. князем Владимиром[83] для воздвигнутой им в Киеве церкви Успения Богородицы была введена характерная для Чехии и Польши форма материального обеспечения церкви – десятина от княжеских доходов[84]. Все перечисленное позволяет говорить о существовании в X–XI столетиях единого культурного пространства христианского славянского мира (Slavia Christiana)[85], еще не распавшегося на западный (римско-славянский) и восточный (греко-славянский) сегменты.
Вместе с тем, согласно преобладающему в историографии мнению, во фрагментах летописного текста, посвященных происхождению славян и славянской письменности, отразился более ранний источник, включенный в летописный свод на этапе создания ПВЛ. А. А. Шахматов, впервые выдвинувший данную гипотезу на основании осуществленного им текстологического изучения ПВЛ, предложил именовать этот гипотетический славянский источник «Сказанием о преложении книг на славянский язык». На основании содержащихся в нем сведений исследователь приписывал «Сказанию» западнославянское (моравское или чешское) происхождение и был склонен датировать его создание эпохой, когда в славянских землях, находившихся в юрисдикции Римской церкви, стала создаваться угроза для использования в богослужении славянского языка[86]. Хотя идея Шахматова об использовании древнерусским летописцем «Сказания о преложении книг на славянский язык» в своем общем виде была поддержана многими исследователями, происхождение, состав и датировка этого гипотетического источника (в широких хронологических пределах X – конца XI в.) стали предметом непрекращающейся дискуссии[87], в ходе которой, наряду с развитием многообещающей гипотезы о создании первоначального текста «Сказания» в важном очаге кирилло-мефодиевской традиции – бенедиктинском Сазавском монастыре в Чехии[88], имевшем с Русью довольно тесные связи, – высказывались и вполне резонные скептические замечания в адрес правомерности отнесения к «Сказанию» сведений о расселении славян из космографического введения ПВЛ[89].
При всей перспективности текстологических поисков, несомненно, способных приоткрыть завесу над тайной появления тех или иных элементов летописного рассказа о происхождении славян, не стоит забывать, что в целом этот рассказ является отражением того самого социального знания, которое являлось отражением вышеупомянутого культурного единства Slavia Christiana. Поэтому трудно не согласиться с Б. А. Рыбаковым, резонно предостерегавшим историков от того, чтобы возводить к некоему письменному источнику любое упоминание о западных и южных славянах в древнерусской летописи[90]. Здесь, наверное, нелишне напомнить, что постулируемое летописцем единство славянского мира не было лишь изобретением кирилло-мефодиевских книжников. Торговые контакты между Киевом, Краковом и Прагой, осуществлявшиеся по «пути из немец в хазары»[91] и способствовавшие приобретению славофонными сообществами знаний друг о друге, существовали задолго до Крещения Руси[92], не говоря уж о том, что этнографическая граница между западными и восточными славянами в верховьях Сана и Буга была не столько наследием племенного периода, сколько результатом формирования и экспансии политических структур Рюриковичей и Пястов, поделивших между собой некогда единые или близкие друг другу племена[93].