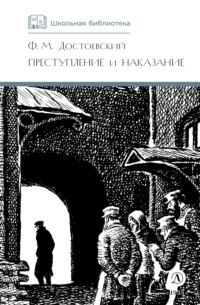
Преступление и наказание
Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определенно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся. О если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать ее не иначе, как прямою к нам милостию Вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счет Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалованье родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности (еще бы ты-то не оказался способен!), но тут же выразил и сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось, но Дуня ни о чем, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компанионом Петра Петровича по его тяжебным занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяю все ее планы и надежды, видя в них полную вероятность; и, несмотря на теперешнюю, весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича (потому что он тебя еще не знает), Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чем-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших и, главное, о том, что ты будешь его компанионом. Он человек положительный и, пожалуй, принял бы очень сухо, так как все это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете; потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии, и он, наверно, без лишних слов, сам предложит (еще бы он в этом-то отказал Дунечке) тем скорее, что ты и сам можешь стать его правою рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалованья. Так хочет устроить Дунечка, и я с нею вполне согласна. Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним, при предстоящей теперешней встрече нашей, на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому и поближе, чтоб о нем судить, и что он сам предоставляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе свое мнение. Знаешь что, бесценный мой Родя, мне кажется, по некоторым соображениям (впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим, бабьим капризам), – мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью, и если еще не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается; но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тещи не очень-то бывают мужьям по сердцу, а я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободною, покамест у меня хоть какой-нибудь свой кусок да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, Родя, самое-то приятное я приберегла к концу письма: узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдемся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трехлетней разлуки! Уже наверно решено, что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда именно, не знаю, но, во всяком случае, очень, очень скоро, даже, может быть, через неделю. Все зависит от распоряжений Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется, по некоторым расчетам, как можно поспешить церемонией брака и даже, если возможно будет, сыграть свадьбу в теперешний же мясоед, а если не удастся, по краткости срока, то тотчас же после госпожинок. О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой, и сказала раз, в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она! Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строках ничего не напишешь, а только себя расстроишь; велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бессчетно поцелуев. Но, несмотря на то, что мы, может быть, очень скоро сами сойдемся лично, я все-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я наверно знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь, в счет пенсиона, даже до семидесяти пяти рублей, так что я тебе, может быть, рублей двадцать пять или даже тридцать пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные; и хотя Петр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно, сам вызвался, на свой счет, доставить нашу поклажу и большой сундук (как-то у него там через знакомых), но все-таки нам надо рассчитывать и на приезд в Петербург, в который нельзя показаться без гроша, хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже все рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмет немного. До железной дороги от нас всего только девяносто верст, и мы уже, на всякий случай, сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком; а там мы с Дунечкой преблагополучно прокатимся в третьем классе. Так что, может быть, я тебе не двадцать пять, а, наверно, тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно; два листа кругом уписала, и места уж больше не остается; целая наша история; ну да и происшествий-то сколько накопилось! А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру, Родя; люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспредельно, больше себя самой любит. Она ангел, а ты, Родя, ты у нас все – вся надежда наша и все упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы! Прощай или, лучше, до свидания! Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бессчетно.
Твоя до гробаПульхерия Раскольникова.Почти все время как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слез; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице; забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В – й проспект, как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению своему, шел, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного.
IVПисьмо матери его измучило. Но относительно главнейшего, капитального пункта сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал письмо. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к черту господина Лужина!»
«Потому что это дело очевидное, – бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. – Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Еще бы! Думают, что теперь уж и разорвать нельзя; а посмотрим, льзя или нельзя! Отговорка-то какая капитальная: «уж такой, дескать, деловой человек Петр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге». Нет, Дунечка, все вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскою Божией Матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Гм… Так, значит, решено уж окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (уже имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, «кажется, доброго», как замечает сама Дунечка. Это кажется всего великолепнее! И эта же Дунечка за это же кажется замуж идет!.. Великолепно! Великолепно!..
…А любопытно, однако ж, для чего мамаша о «новейших-то поколениях» мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшею целью: задобрить меня в пользу господина Лужина? О хитрые! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство: до какой степени они обе были откровенны друг с дружкой, в тот день и в ту ночь, и во все последующее время? Все ли слова между ними были прямо произнесены, или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего выговаривать да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было; по письму видно: мамаше он показался резок, немножко, а наивная мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и «отвечала с досадой». Еще бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она пишет мне: «Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит»; уж не угрызения ли совести ее самое втайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать. «Ты наше упование, ты наше все!» О мамаша!..» Злоба накипала в нем все сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его!
«Гм, это правда, – продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове, – это правда, что к человеку надо «подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его»; но господин Лужин ясен. Главное, «человек деловой и, кажется, добрый»: шутка ли, поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет! Ну как же не добрый? А они-то обе, невеста и мать, мужичка подряжают, в телеге, рогожею крытой (я ведь так езжал)! Ничего! Только ведь девяносто верст, «а там преблагополучно прокатимся в третьем классе», верст тысячу. И благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста… И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам; хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко: поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а пожалуй, что и задаром пойдет. Что ж они обе не видят, что ль, этого аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны! И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скалдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество… Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми аль с двумя «билетиками», как говорит та… старуха… гм! Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже и в первое время? Милый-то человек, наверно, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками от этого: «Сама, дескать, откажусь». Что ж она, на кого же надеется: на сто двадцать рублей пенсиона, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет, да нарукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям, это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеются: «Сам, дескать, предложит, упрашивать будет». Держи карман! И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиные перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят; коробит их от одного помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть и что он ее на обеды у подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет! А впрочем, черт с ним!..
…Ну да уж пусть мамаша, уж Бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как последний-то раз мы виделись: характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что «Дунечка многое может снести». Это я знал-с. Это я два с половиной года назад уже знал и с тех пор два с половиной года об этом думал, об этом именно, что «Дунечка многое может снести». Уж когда господина Свидригайлова, со всеми последствиями, может снести, значит, действительно, многое может снести. А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при первом свидании. Ну да положим, он «проговорился», хоть и рациональный человек (так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить), но Дуня-то, Дуня? Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и… ну да уж, конечно, не изменилась и теперь!.. Что говорить! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двести рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, – навеки, из одной своей личной выгоды! И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною наложницей господина Лужина! Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продает! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чем вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать продаст! все продаст! О, тут мы, при случае, и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, все, все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и есть, и все ясно как день. Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с, счастье его может устроить, в университете содержать, компанионом сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца хотя бы и такою дочерью не пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? «Любви тут не может быть», – пишет мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уважения не может быть, а напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение, что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, «чистоту наблюдать» придется. Не так, что ли? Понимаете ли, понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота все равно, что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет! «Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота!» Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слез-то, скрываемых ото всех, сколько, потому что не Марфа же вы Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь неспокойна, мучается; а тогда, когда все ясно увидит? А со мной?.. Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!» Он вдруг очнулся и остановился.
«Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь? Слышали мы это, да ведь это буки, а теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под сторублевый пенсион да под господ Свидригайловых под заклад достаются! От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Бахрушина чем ты их убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? Через десять-то лет? Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от слез; от поста исчахнет; а сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет али в эти десять лет? Догадался?»
Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже как они начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или…
«Или отказаться от жизни совсем! – вскричал он вдруг в исступлении, – послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»
«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? – вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, – ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти…»
Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно «пронесется», и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь… теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это… Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах.
Он поспешно огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку; проходил же он тогда по К – му бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах во ста. Он пошел сколько мог поскорее; но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание.
Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и, с первого же взгляда, бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться – сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи («матерчатое») платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок отставал и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила наконец все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже, может быть, только пятнадцати, – маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала; одну ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и, по всем признакам, очень плохо сознавала, что она на улице.
Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж в стороне, шагах в пятнадцати, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками, и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину.
– Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? – крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами.
– Это что значит? – строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись.
– Убирайтесь, вот что!
– Как ты смеешь, каналья!..
И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади, между ними стал городовой.
– Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков? – строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотья.
Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом.
– Вас-то мне и надо, – крикнул он, хватая его за руку. – Я бывший студент, Раскольников… Это и вам можно узнать, – обратился он к господину, – а вы пойдемте-ка, я вам что-то покажу…
И, схватив городового за руку, он потащил его к скамейке.
– Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару: кто ее знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули… в первый раз… понимаете? да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето: ведь ее одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то неумелые руки, мужские. Это видно. А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он ее тоже отметил дорогой, сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, – так как она в таком состоянии, – завезти куда-нибудь… И уж это наверно так; уж поверьте, что я не ошибаюсь. Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал, и он теперь все ждет, когда я уйду. Вон он теперь отошел маленько, стоит, будто папироску свертывает… Как бы нам ему не дать? Как бы нам ее домой отправить, – подумайте-ка!