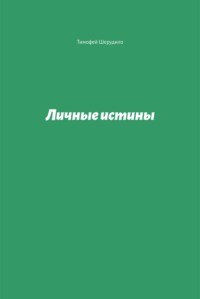
Личные истины
***
«О первых и последних вопросах» начинает трактовать не всякий писатель, а тот, кому не удалось вложить свою душу в разрешение более простых повседневных задач, кто не нашел жизненного благополучия и утоптанного пути перед собой. Метафизические вопросы существуют прежде всего для несчастных. Счастье изгоняет метафизику. Можно смотреть на несчастие как на признак слабости, неспособности; но я думаю, что несчастье и способность быть несчастным – признаки глубины душевной жизни, так же, как неограниченная способность к «неограниченному счастью» – признак ограниченности кругозора. Творчество начинается если не от несчастья, но от противоречия между желаемым и действительным. Пока человек составляет одно целое со своей средой, ему нечего сказать, у него, собственно, нет ничего такого, что он мог бы считать исключительно своим, личным; его чувства суть чувства его среды… Но как только между желаемым и действительным появляется разрыв – рождается мысль, начинается творчество.
***
Для творчества – не для «успеха», а просто как условие – нужно умение бытьне вполне здесь, известная отвлеченность. Если обычно внутренняя жизнь души только отражает движение к некоторым внешним целям, то у творца всё наоборот. Его внутренняя жизнь более вещественна, более плотна, чем жизнь вещей и событий вокруг него. Иначе – поглощенность миром; жизнь исключительно во внешнем, которая творчеству не благоприятствует. «Оказывать влияние» на вещи или людей – дело довольно-таки противоположное сути творчества как внутренней жизни души. Творчество означает стремление не к власти, но к внутренней ясности, т. е. правде, и если влияет на людей или вещи, так только опосредованно, впоследствии. Деятельность же, как противоположность творчеству, в первую очередь занята силой и успехом, направлена исключительно вовне; деятельность не стремится к просветлению своей внутренней жизни и редко его достигает. Что лучше? Что достойнее человека? Здесь нет ответов, но только одни вопросы. Ответа на них нет, по меньшей мере, одного и пригодного для всех.
***
Мы можем выразить то, чего не можем вместить – и только это, пожалуй, мы и можем с ним сделать. Искусство всецело основывается на душевной способности преодолевать ужас, давая ему выражение. Образы, которые нас терзали, пока не имели формы, – подобно страшным снам, – отпускают душу, как только для них найдутся слова. Разуму, вопреки известному представлению, важно непонять, а выразить. Наша способность выражения далеко превосходит нашу способность понимать…
***
Искусство есть то, что приводит душу в движение, иного определения я предложить не могу. Покой, состояние без мысли и волнения, искусству противоположен. Только не нужно смешивать весеннее волнение тела, которое так хорошо умеет вызывать «массовая культура», с трепетом души. Новейшее время вообще слишком преуспело в общении со стихией пола. Что здесь плохого? То, что обращается оно непосредственно к темной сердцевине половой жизни, минуя все высшие и очищенные ее формы, связанные с любовью. Душу учат испытывать томление и темное волнение и сладострастиесразу, не проводя ее искусительным и очищающим путем любви к другой личности, т. е. путем самопрезрения и самоотдачи и признания равной себе, если не большей, ценности в другом. Как мне уже довелось сказать, мы учимся окунаться в самые источники удовольствий, и упускаем то, что превыше удовольствия – неразрывно связанное со страданием счастье.
***
«Каково чувство того, кто всё постиг?» – «Немота. Неспособность сказать ни слова. В то самое мгновение, когда весь ряд мировых событий выстроится перед тобой как одно целое, со всеми связями, причинами и последствиями – почувствуешь великую немоту. Чем больше я понимаю, тем меньше у меня находится слов для моего знания. Чем проще понятие, тем бо́льшим числом слов оно может быть выражено, так что самые сложные вещи ускользают от выражения. “Я понимаю это” значит “я об этом молчу”. Либо я понимаювсё – и тогда не могу сказать ничего, либо я ничего не понимаю – и тогда могу сказать очень много. На весах мудрости постоянно перевешивает чаша незнания, вот почему наш слух так редко отдыхает. Отвратительное положение! Вся моя воля к познанию и вера в его возможность в конечном счете приводят меня к молчанию. Что же это за познание, которое в последнем итоге заставляет меня уничижаться и молчать, в то время как хор познавших немногое не умолкает ни на минуту! “Я понимаю всё, – может сказать душа, – поэтому, видите ли, не могу сказать ничего!” Какая насмешка над познанием, и как хорошо, что мгновения всезнания даются душе так редко!»
«Всё частно, – знает душа в такие мгновения, – и в то же время всё безусловно. Всё мгновенно, и в то же время всё вечно. Всё бессмысленно, и в то же время в каждой искорке бытия горит смысл. Полная подавленность и оставленность Божеством – только воспламеняет душу, двигая ее на поиски нового смысла. Вот истинное и непередаваемое словами ощущение жизни». Всё так, но что с этим делать и как жить с такой правдой о жизни? Каждая гора оказывается долиной, и в каждой долине скрыта гора, такова истина о душевной жизни, но что делать с этой истиной тому, кто не желает выпасть из общества и истории, требующихчастных, неполных, но зато определенных оценок и стремлений? Век сей нуждается в определенности более, чем в истине, и тому, кто готов пожертвовать определенностью ради истины, предстоит много пострадать, так как время требует верности частной, ограниченно понятой истине, в ущерб полной, которая не терпит разделения на части и с трудом поддается может быть выражена словами… Что делать с правдой, которая в нас не вмещается?
***
…Истина заманивает человека на путь познания, обещая: «И тогда ты узна́ешь…» «Я уверен, – отвечает ей человек, – что я не узнаю ничего такого, что будет противоречить разуму» «Ну вот, – разочарованно отвечает Истина, – а ты еще говорил, будто ищешь истину. Теперь же оказывается, что ты ищешь только такую истину, которая не противоречит разуму, т. е. не подрывает твоей уверенности в себе».
***
Современность произведения зависит от количества внутреннего огня в нем, от того, насколько оно питается внутренними переживаниями творца.Личное значит вечное, или во всяком случае долговечное. Современны наши Герцен и Достоевский; современны Христос и Исайя… Все они выражают не «свою эпоху», а себя самих; писатель, мыслитель – ни в коем случае не «выразитель своего времени», в этом случае придется приписать тому или иному времени какую-то особую даровитость, по меньшей мере объявить некоторые времена особенно благотворными для творчества, но это было бы против правды: наоборот (думаю, это не надо даже доказывать), времена Исайи или Христа, Ницше или Достоевского не были как-то особенно благоприятны для творчества, и более того – были, скорее, особенно трудны для мыслящего человека. Если уж говорить о месте «эпохи» в том или ином творчестве – эпоха создает трудности, которые преодолевает мыслитель; дает пищу для огня, в котором горела его душа – а душевная жизнь, насколько она присутствует, всегда огонь. Потому-то философское, и любое другое творчество, совсем не «для вечности». Ничего подобного. Оно нуждается в своей эпохе и своем обществе; оно предназначено для нации, а шире – для человечества, для того отрезка культурной истории, в котором его слова и образы еще понятны, который единомыслен с творцом и не нуждается в объяснении неясностей и намеков. За пределами этого отрезка творчество – только предмет исследования. Указывать творцу на лежащую перед ним вечность – то же, что утешать Ромео тем, что он встретится с Джульеттой в могиле.
С другой стороны, это детское заблуждение, будто Пушкин – потомуПушкин, что его признали и прославили. Даже если бы он не просиял, он всё равно был бы тот же, и глубина его душевной жизни не переменилась. Юноши честолюбиво сравнивают себя с тем или иным из просиявших, забывая о том, что важно не внешнее сияние, но внутренний свет души. «Исполнен мыслями златыми, не понимаемый никем», прошел бы он своей дорогой, и никто бы его не заметил. И сколько так проходит? Блеск и сложность глубокой душевной жизни не обязательно бывают явлены человечеству. Современность не знает, что великий человек есть человек высоко поднявшийся, а не высоко поднятый, что величие нисколько не зависит от общественного мнения и демократической подачи голосов…
***
Могут сказать: «Почему ты позволяешь миру ранить себя? Будь равнодушен и тверд, следуй своим путем…» Но в том-то и дело, что я не могу быть равнодушен. Всё, что я знаю, я знаю о том, с чем соприкоснулась моя душа, что было ей мило или больно. Ничего другого, кроме ласкового или ранящего для моей души, я не знаю. Душевные движения – единственная ценность личности. Кроме творчества и любви, жить не для чего. Вещи, никакие внешние вещи, цены не имеют, и приводить ради них свою душу в движение безумно. Это острое и захватывающее мироощущение имеет свою оборотную сторону: чувство того, что «всё, в сущности, ненужно». Воля к вещественным достижениям покидает высоко поднявшуюся душу, так что искомая намився полнота жизни есть, по существу, внутри нас. Мир манит нас и развлекает, и в то же время в нем ничего нет, кроме других душ, к общению с которыми можно стремиться, и Бога, объемлющего их всех.
***
Я понимаю гораздо более того, что я знаю. Знание всегда узко, более того – оно всегда есть познание частностей, разделений; понимание же всеобще, так широко, что слова не вмещают его. В каждое мгновение жизни я понимаю больше, чем знаю. Знания постепенно растут, но круг понимания расширяется неизмеримо быстрее, и точное знание – только точка в середине этого круга. «Свет знания» – только костер в темном поле, к краям которого, к границе света и тени, стремится подгоняемое недоумением и любопытством наше понимание… Оно смутно, неосознанно, полно тумана и теней, но неизмеримо шире светлой точки нашего знания… Если бы путь логических заключений приводил к истине, то давно бы уже не было несчастных. Но раз это не так, мы вправе предположить, что логика и истина не состоят в родстве, а разум – не крайний судия правды.
Более того: Сократ был в корне, совершенно не прав. Знание истины, различение между должным и недолжным, ни на грош не обеспечивает спокойствия. Знание доброго и злого не только не делает душу неуязвимой, но, напротив, с него-то и начинаются обостренная чувствительность и открытость ранам. Напротив, только видя попираемую ногами истину и начинаешь беспокоиться. Неуязвимость была бы возможна при душевной неподвижности, слепой уверенности в однажды добытых выводах; но в жизни меньше всего поводов для уверенности. И потом, истина как раз требует деятельного к себе отношения. Истина как раз то, к чему направлены наши душевные силы, истина определяется через любовную к ней направленность наших чувств, она наша любовь и святыня, и «поиск истины, – говорила Диотима, – есть великая и опасная любовь». Конечно, это верно только для тех, кто ищет Истину-святыню, истинуморально ценную, истину, оправдывающую все остальные, т. е. человеческую и божественную, религиозную, видя в религии связь божественного и человеческого начал. Для искателей безразличных истин эти рассуждения бессмысленны.
***
«Безделье? Невозможно. Наслаждение? Возможно, но с угрызениями совести пополам. Покой? Ненадолго, между приступами беспокойства». Думаю, это черты не отдельного человека, но творящей души. Наслаждаться, довольствоваться и покоиться можно только творчеством, т. е. внесением в мир новых сущностей, и только пока это творчество длится. Ницше знал это ощущение и объяснял его «волей к власти», но на мой взгляд это чувство гораздо более тонкое, скорее эротическое; чувствосладостной самоотдачи, приобщение к другому, выход за пределы себя. Кажется, вот верное слово: душа ищет выхода за собственные пределы и радуется, когда его находит, вернейшие же пути к такому выходу – творчество и любовь. Чего можно желать себе здесь, по эту сторону смерти? Всей возможной полноты жизни, но только без вреда для своей души. Вот правило, которое легко выразить и следовать которому трудно, для многих почти невозможно. Мы живем не для святости или еще какой-то внешней нам самим цели; мы живем для того, чтобы в каждое мгновение быть вполне собой; чтобы вложить себя во всё, к чему мы чувствуем в себе силы… и ни на йоту не повредить собственной душе. Вот широкие врата и узкий путь. Всё «добро зело», во что мы вложили всю душу и всё сердце. Злое в таком случае определяется как то, что души и сердца вложить нельзя; что не принимает души и сердца добровольно, чтобы тут же их отдать дарителю – как поступают все высшие вещи, – но высасывает их; человек по отношению к злому не даритель, но жертва. Безразличные же вещи те, в которые сердца вложить нельзя, но отнять сердце они также не могут. Добро, таким образом, есть полнота; зло – хищная сосущая пустота, скорлупа, жаждущая наполнения.
***
«Духовные ценности» в чистом виде значат страдание, страдание и еще раз страдание, итог неимоверного напряжения мысли, вынужденной перетолковать, переставить все известные ей понятия так, чтобы новый их порядок придал существованию вид осмысленности. Чтобы не сойти с ума или не потерять свою душу, нужно отвергнуть либо действительность, либо свой взгляд на действительность. Отвергающий действительность сохранит «идеалы», но уверится в бессмысленности мира; кто решится на разрушение и перетворение своего внутреннего строя понятий, может достичь большего – увидеть в действительности смысл. Тому, кто не может ни согласиться с ходом вещей, ни принять в нем участие, ни противостоять ему, остается только вложить себя вполне в какой-либо вид творчества. Мы не в силах воздействовать на вещи, но мы можем придать им тот или иной смысл и соотношение, упорядочить их заново и в море наступающей бессмыслицы создать островок смысла, каким в распадающемся мире стала когда-то Нагорная проповедь. Наше создание не изменит равновесия исторических сил, но позволит нам прожить жизнь с незамутненным разумом, что не так уж и мало. Философия в таком случае оказывается средством сохранить рассудок.
***
Ницше хотел бытьпоследним истолкователем мира, но ни одна йота из его истолкований не была принята. Или, скажем так, общество приняло некоторые из его исходных посылок («нет ничего истинного»), но без его выводов. Читая Ницше, видишь, что это слишком духовный писатель для нашего времени. Если он мечтал о придании жизни нового смысла, то современность готова успокоиться на идеале обеспеченного существования в бессмысленном мире. Ницше расшатывал опоры храма, рассчитывая на освободившемся месте выстроить новый. Храм разрушен, но его место пусто. Пала ненавистная Ницше мораль, но сменили ее побуждения стада – уже настоящего, не приукрашенного стада, с его заботами о пище и безопасности, словом, не того воображаемого «стада», которое, по Ницше, выработало в себе христианскую религию и христианскую нравственность… Дух же процветает только там, где ставит себе цели, враждебные или хотя бы чуждые собственному благополучию. Ницше (как и наши Герцен и Достоевский) вопиюще современен. То, что он предсказывал, совершилось: мозаика осмысленного мироздания рассыпалась; связи между вещами порваны; истина вырвалась из клетки человеческих представлений и снова летает в небе. «Так истины больше нет? – Ничего подобного. Истина свободна и снова ожидает, когда мы отправимся ее искать».
***
Надо сказать, что, вопреки всей видимости, Ницше был христиа́нин11 по характеру и душевным привычкам, и его нападки на христианство носят исключительно политический характер. Ницше более всего нуждался в силе; в укреплении и ободрении для себя самого, и этого ободрения, благословения силы жить, в тепловатой церковной проповеди своей эпохи не находил. Ницше нужно было выжить; в том возрасте, когда другие наслаждаются силой и здоровьем, он заботился о том, как бы не умереть. Проповедь «презрения к смерти», героического для крепкого и здорового человека, добровольно принимающего то, что принять нельзя, – для Ницше не имела ничего героического. Его героизм состоял в том, чтобы остаться живым. Ницше никак не мог смириться со смирением, да простится мне этот повтор. Ему была необходима твердость и надежда: он внушал их себе, как и насколько мог… оставаясь при этом всё тем же христианином, т. е. человеком, для которого жизнь души имеет высшую и ни с чем не сравнимую ценность.
***
Философия есть учение о смысле мироздания, как религия – о смысле данной человеческой жизни. Людям современности, по меньшей мере, просвещенной их части, можно было бы сказать: «Вы знаете все философии мира, ноу вас самих нет никакой философии. Вам известны все религии мира, но у вас самих нет никакой религии. Вы только изучаете смыслы, которыми наполнялась жизнь других, но сами в своей жизни не находите никакого смысла». Изучают всяческие культуры, но сами никакой культурой не обладают, ее заменяет «научный метод исследования». «Наука», по расхожему мнению, ставит человека выше всякой культуры, на которую с высоты научного познания теперь смотрят как на собрание предрассудков. Культура в глазах ученого – только дивный сад, выращенный поколениями садовников, но и сами садовники, и деревья и листья этого сада подлежат теперь изучению, только изучению – с холодным сердцем и бесчувственной душой. Культуру, – полагают сегодня, – можно изучать, но принадлежать к ней нельзя. Наши прадеды гордились своей принадлежностью к европейской культуре; теперь всякая гордость заподозрена, «у нас, – говорят, – есть техника, зачем же еще культура?» При этом в самоощущении современного просвещенного человека нет ничего трагического. При всей мрачности взгляда на мироздание и человека таких людей можно назвать оптимистами: от будущего нашей культуры они ждут всяческих благ. Они всё еще не готовы признаться себе в том, что«прогресс» не означает изменений к лучшему, «прогрессивный» – не значит «лучший». Внутренний смысл прогресса не имеет ничего общего с людскими чаяниями. Есть просто некоторое роковое движение, которое увлекает нас, подчиняясь исключительно собственным внутренним связям и влияниям… «Прогрессом» можно было бы назвать чисто механическое развитие человеческого общества, вполне освобожденное от воздействия духа. Он безнравствен – или, точнее сказать, не имеет нравственных целей. Это разочарование для поколения, воспитанного на идее благотворности «естественного развития». Если у поступательного движения, захватившего мир в последние столетия, и есть какое-то нравственное содержание, то это постоянный рост напряжения между добром и злом, о котором писал С. Булгаков. Прогресс и свобода подвергают душу всё большим испытаниям, давая всё больше простора действиям личного зла. Более высокая степень свободы и могущества требует и более высокой степени нравственности. Чем выше развитие общества, тем большей угрозе оно подвергает себя.
***
Время уловляет нас в петлю, и самый сильный боец борется только в пределах круга, очерченного его временем. «Враг своего времени» есть прежде всего пленник своего времени. Мы ставим известные вопросы прежде всего потому, что ими пренебрегает эпоха (я говорю именно о «врагах своего времени», о несвоевременных, т. е. современных, мыслителях). Если время страдает от нигилизма и истощения запаса ценностей, то и самые сильные борцы против этого времени будут отчасти нигилистами, только страдающими, разумными и сознающими. Одни сознают свой нигилизм как преимущество, а вторые – как несчастье, и вот из этих вторых вышли некогда Ницше и Достоевский, а в новейшее время Шестов, и еще выйдут другие независимые мыслители.
***
Чтобы успешно бороться со своим временем, нужно быть с ним хотя бы на одном уровне развития или выше; только тогда может идти речь о борьбе; иначе можно говорить только о наивности мыслителя, о незатронутости культурными воздействиями. Это значит, что нужно в себе самом носить все противоречия своего времени и волю к их разрешению. В этом-то и трудность современных свободных умов – их свобода совсем иная, чем у esprit-forts XVIII столетия. Это свобода не разнуздания, но самоопределения и внутренней ясности; свобода трезвого среди пьяных; свобода самообладания в мире, не видящем ценности в самоподчинении и внутренней целостности; в мире, в котором до сих пор, по существу, живет умонастроение XVIII века, самодовольное и ограниченное, как все революционные мировоззрения. В нем своеобразная гордость посредственности. В XVIII столетии человек – просвещенный человек – снял с себя корону, снял доспехи, все знаки царского и рыцарского достоинства, развенчал сам себя и извсего добровольно стал ничем. «Снимите с нас бремя сие: наши плечи его не выносят!» С этими словами поколение слабых и нравственно шатких людей отказалось от непосильной для них тяжести – не только за себя, но и за потомков…
***
Лев Шестов в своих ранних произведениях, в «Апофеозе беспочвенности», например, пытается быть циником. Это не идет мыслителю. Ведь цинизм, по существу, есть душевная склонность во всемсложном и богатом видеть бедное и простое. В этой своей разновидности цинизм есть не просто болезнь, но метод современного мышления. Циник отказывается видеть в мире непроизводные ценности; во всем сложном и ценном он видит только сочетание простейших, не имеющих самостоятельной ценности частиц. Этот взгляд на вещи жертвует правдой ради простоты объяснений. Удобство, с каким ту или иную умственную постройку можно возвести с использованием данных предпосылок, считается мерой добротности – то есть истины – самой постройки; спокойствие оказывается мыслителю дороже истины… Но я думаю, что на душевное беспокойство можно, и не просто можно, но следует смотреть как на добродетель, как на признак нравственной годности, как на плуг, взрывающий Неизвестное. Кто не беспокоится, к тому неизвестное не имеет никакого отношения, даже больше: кто не беспокоится, тот не познаёт.
***
Весь мир можно превратить в слова и в легкую, тонкую связь понятий. Этим заняты мыслитель и художник, а особенно художник-мыслитель. В каждой вещи скрыта правда о ней, и куда ни направишь взгляд, отовсюду бьют источники смысла. Мир становится безводной пустыней только для сухих умов, мыслящих понятиямицелей и достижений, достижений для себя самих. Ветер высших целей, высших и потому бесполезных, освежает даже деятелей, людей целей и достижений, так что и они начинают видеть в вещах отдельный от их собственной выгоды смысл, но без него мир сухая пустыня, в которой скитается томящееся человечество, желая найти и не находя хотя бы ручеек смысла.
***
Философия, как и всякое творчество, производится стремлением вырваться за пределы собственной личности, за пределы частного и преходящего существования. Помните этот образ Достоевского: «вечность, может быть, – деревенская баня с пауками по углам»? Высказавший эту мысль Свидригайлов мог бы сказать в пояснение: «Есть только то, что я сейчас чувствую; только я один на свете, и больше ничего. Я отъединен от всего мира. И в вечности будет так же». Настоящая полнота жизни дается толькоприсоединением к другим людям, ценностям, мыслям; сорадованием другому. Без этого, в кругу личных желаний и целей, не будет радости: только всё та же «деревенская баня с пауками». Ни одно «я» не хорошо до такой степени, чтобы радоваться о самом себе. «Внутри себя» в высшей и последней степени – только последняя грусть.
Так и писатель, хотя и познаёт всё только через себя, не может вполне замыкаться в себе. Личное в литературе может быть допущено только в виде очищенном, и потому общечеловеческом. Разрешенное писателю «личное» естьобщечеловеческое, узнанное не от других. Вот в сведениях, полученных не от других, и видят ныне литературную вину. Право молиться и страдать признают за одними мертвыми писателями – живым это неприлично. Искренность, глубина и цельность переживаний производят странное впечатление чего-то несовременного и вообще покушения на права покойных авторов, которым одним разрешается не только страдать, но и мыслить о своем страдании. Вот это «мыслить» современному писателю и не положено, видимо, потому, что эпоха мнит себя ко всем замкам подобравшей ключи и ко всем вопросам ответы. Но даже тому, кто всё понимает, до безумия горько, когда ему затыкают рот. «Только молчи! Делай, что хочешь, но только молчи!», кричит на писателя Время. И он молчит – и пишет, всё из материала собственной души, но только всё грустнее и грустнее.