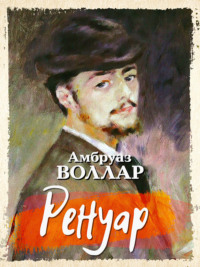
Ренуар
Я. – В котором году вы в первый раз выставляли в Салоне?
Ренуар. – В 1863. Я послал большую махину. Забавно, что защищал меня Кабанель[20] не потому, конечно, что ему нравилась моя живопись. Напротив, прежде всего он заявил, что она отвратительна. «Но, – поспешил он прибавить, – как бы то ни было, надо признать, что там есть кое-что!» Моя картина изображала Эсмеральду, танцующую с козой вокруг огня, освещавшего целую толпу оборванцев. Я еще вспоминаю отблески пламени и громадные тени на стенах собора. После Салона, не зная, что делать с такой громоздкой картиной, а также, надо признаться, из ненависти к битуму, от которого я еще не отделался окончательно, – я уничтожил эту вещь. Вообразите, как мне повезло: в тот же день ко мне явился англичанин, чтобы купить именно эту картину. Это была последняя вещь, которую я писал с битумом.
Мои товарищи по мастерской Глейра атаковали Салон тогда же, когда и я, но с меньшим успехом. Правда, в тот год были отвергнуты и другие художники, гораздо более нас известные, включая и Мане. Их неудача вызвала такие протесты в печати, что император Наполеон III согласился, чтобы в одном из отделений Лувра был устроен «Салон отверженных». Но организация выставки все-таки была поручена одному из академиков. Нечего и говорить, что экспонентам были предоставлены худшие залы музея. Как бы там ни было, в настоящее время трудно себе представить, чтобы подобная выставка в Лувре была устроена по почину министра искусств и чтобы Бонна[21] согласился быть ее организатором. Во время Империи были очень либеральны. Нужно заметить, что тогда художников было меньше, чем теперь, и все-таки находили, что с ними слишком много хлопот. Типична отповедь Бальзака в ответ на предложение писать о Салоне: «Разве вы не знаете, что для этого мне пришлось бы просмотреть около четырехсот картин?!» А это было еще при Луи-Филиппе. Выставка «отверженных» разумеется, имела шумный успех скандала. Мане выставил свой «Завтрак на траве». В Салон эта картина не была принята столько же из-за живописи, которую нашли плохой, сколько и из-за сюжета, который сочли малопристойным. По-видимому члены жюри не считались с тем, что Мане лишь повторил один из сюжетов великой Венецианской школы, а в своей нагой женщине подражал одной из фигур Рафаэля.
В том же году (1863) я познакомился с Сезанном. Я разделял тогда с Базилем маленькую мастерскую в Батиньоле, на улице Кондамин. Базиль однажды вернулся домой в сопровождении двух молодых людей. «Я привел к тебе двух знаменитых новичков». Это были Сезанн и Писсаро.
Мне предстояло впоследствии близко сойтись с обоими, но особенно живые воспоминания оставил во мне Сезанн. Я думаю, что во всей истории живописи нет явления, подобного Сезанну. Дожить до 70 лет и с первого же дня, когда взял кисть, и до конца оставаться столь одиноким, словно он жил на необитаемом острове. И затем наряду с этой страстной любовью к своему искусству такое безразличие к уже законченным вещам, даже тогда, когда представлялась возможность их продать. Вообразите себе Сезанна, если бы у него не было ренты и он должен был бы ждать покупателей! Можете ли вы себе представить его принужденно улыбающимся «знатоку», который позволил бы себе не уважать Делакруа?! И вместе со всем этим так мало «практичен в жизни», как любил говорить он сам. Однажды я его встретил на улице с картиной подмышкой, почти волочащейся по земле. «Дома нет больше денег! Попробую продать эту вещь! Достаточно сделанный этюд, не правда ли?» (Это были знаменитые «Купальщики» из собрания Кайеботта, настоящее сокровище!)
Через несколько дней встречаю его опять.
«Дружище Ренуар, – говорит он растроганно, – я очень счастлив: моя картина имела громадный успех; она попала к человеку, который ею очень дорожит!»
Я подумал: «Какая удача! Он нашел ценителя!» Этот ценитель был Кабанер[22], несчастный бедняга— музыкант, который с трудом зарабатывал четыре— пять франков в день. Сезанн встретил его на улице, и так как Кабанер пришел в восторг от картины, то и получил ее в подарок от художника.
Я никогда не забуду прекрасного времени, проведенного мною в окрестностях Экса, в доме отца Сезанна, в Жас де Буффан – этой прелестной постройке XVIII века. В ту эпоху умели строить дома, в которых было уютно и где можно было погреться у камина. И в самом деле, в большом салоне, с высоким потолком, должна была бы быть стужа и, однако же, когда мы сидели у камина с экраном за спиной, как было приятно-тепло! А эти великолепные укропные супы, которые готовила нам мать Сезанна! Добрейшая женщина! Я еще слышу ее голос: она дает рецепт этого супа: «Берут веточку укропа, маленькую чашечку оливкового масла…» Как будто это было вчера!
Ренуар продолжал. – Я говорил вам о Салоне 1863 г. На следующий год я не был столь удачлив. По милости жюри мне пришлось выставляться в «Салоне отверженных», но на этот раз успех отверженных был меньше. Это была последняя выставка в таком роде. Что касается меня, то в 1865 году мне еще раз повезло и я был допущен в салон Кабанеля с моей картиной, изображавшей молодого человека, гуляющего с собаками в лесу Фонтенебло; этот молодой человек был один из моих друзей – художник Лекер. Картина написана шпателем в виде исключения, так как этот способ мне не подходит. Но, впрочем, я вспоминаю, что в том же году я сделал тоже шпателем еще картину – «Охотница» – в натуральную величину. Я просто хотел сделать этюд нагой женщины. Но так как мою картину нашли малоприличной, я дал в руки модели лук и положил к ее ногам лань. Чтобы скрыть наготу тела, я прибавил звериную шкуру, и мой этюд превратился в «нимфу-охотницу». И все-таки мне не удавалось ее сбыть. Правда, однажды явился какой-то любитель, но продажа не состоялась, так как он хотел купить одну лань, а я не хотел «разрознивать» мою вещь.
Этот разговор с Ренуаром происходил во время прогулки в Лувесьеннском лесу. Внезапно остановившись, Ренуар указал мне на соседние склоны:
– Эти деревья, это небо!.. Я знаю только трех художников, способных передать это: Клода Лоррена, Коро и Сезанна.
* * *Случай привел меня познакомиться с художником Лапортом, другом молодости Ренуара, о котором Ренуар говорил, что без Лапорта он бесспорно еще некоторое время не рискнул бы заняться живописью. Мадам Эллен Андрэ, которая в свое время дала повод Ренуару для нескольких лучших из его этюдов, обратилась ко мне:
– Приезжайте-ка позавтракать как-нибудь ко мне в Виль д’Аврэ. Стол накроют на воздухе, возле роз, и мы поговорим о Ренуаре!
С каким удовольствием я согласился!
У Эллен Андрэ, в ее очаровательном саду, где все растет по вольной прихоти, в ее «Раю», как она сама его называет, меня представили хорошо сохранившемуся старику с традиционной внешностью артиста: широкополая мягкая шляпа, романтический плащ. Его сопровождала молоденькая племянница.
За столом один из приглашенных, Анри Дюмон, тонкий художник вьюнов и роз, хвалил картины Ренуара.
Старый художник спросил: «Это Ренуар, импрессионист? Я хорошо знал его в молодости: мы были близки. Если встретите его, скажите ему об его друге Лапорте; он, разумеется, сейчас же вспомнит меня! В те времена он расписывал шторы, а я зарабатывал мой хлеб росписью церковных стекол – очень горький хлеб, если подумать, что уже тогда я был убежденным вольнодумцем!»
Я. – У вас есть работы Ренуара?
Лапорт. – Да, у меня есть «Розы», которые он мне когда-то дал, а я ему в обмен подарил «Барана», написанного битумом, свой этюд с натуры, которым я был вполне удовлетворен. Надо вам сказать, что я потерял из вида Ренуара довольно рано. Жизнь, женщины разлучили нас!
Я. – Я думал, что женщины для Ренуара служили лишь поводом к картине?!
Лапорт (живо). – Но я зато не смотрел на них лишь как на мотив для живописи! И даже не совсем считался с друзьями, когда мне случалось влюбиться.
И продолжал: – И в рисунке Ренуара ведь это-его слабое место, не правда ли, – так вот в рисунке Ренуара я неповинен, так как с моей стороны не было недостатка в увещаниях по этому поводу! И тогда и теперь, я всегда был влюблен в Давида! Вот кто не шутит с линией! Если бы Ренуар слушался меня и сумел бы соединить рисунок с цветом, кто знает, не стал ли бы он вторым Давидом, подобно моему почтенному другу Леконту дю Нуи! Но когда я говорил Ренуару: «надо заставить себя рисовать!»– знаете, что он мне отвечал?
«Я подобен маленькой пробке, брошенной в воду и увлеченной течением! Я отдаюсь живописи потому, что мне это свойственно!»
Я. – Во всяком случае Ренуар, как мне кажется, достиг своего.
Мой собеседник решил, что я имею в виду цены, которых достигли произведения Ренуара.
– Да, если принимать всерьез все эти аукционные цены! Но ведь я-то слишком хорошо знаю, как все это получается! И знаете, что еще мне рассказывают? Говорят, что торговцы, чтобы крепче держать в руках художников, доходят до того, что вводят их в долги! Да, мосье!
* * *Мне привелось найти еще другого свидетеля молодости Ренуара. Моя приходящая служанка как-то сказала мне:
– Я читала в газете, что за картины мосье Ренуара, который бывает у вас, хорошо платят. Так вот мне приходилось иногда работать у господина, который знал мосье Ренуара. Ему также удалось достичь хорошего положения: он служит швейцаром в доме на одной из главных улиц.
Я отправился по указанному адресу.
Стоило мне только заговорить о Ренуаре:
– А, Ренуар! Как же, я как-то увидел его портрет в газете и сейчас же его узнал. Пятьдесят лет назад я столовался в одной закусочной, где он также обедал. Нас было несколько за столом и двое были художники… Ренуар всегда говорил о живописи. Он брал меня раза два-три с собой в Лувр. В те времена я был приказчиком у торговца коврами, который с тех пор…
– Но не вспомните ли вы, что говорил Ренуар?
– Ну как же, как будто это было вчера, мосье! Например, за нашим столом была установлена очередь на мозговую косточку, и вот Ренуар каждый день говорил, что сегодня его очередь!
Мой собеседник смолк: дальше этого его воспоминания о художнике не шли.
IV. Кабачок матушки Антонии (1865)
Ренуар. – Кабачок матушки Антонии – это одна из моих картин, о которой у меня сохранились самые приятные воспоминания. Не потому, что я нахожу эту картину особенно удачной, но она так напоминает мне чудесную матушку Антонию и ее харчевню в Марлотт, настоящую деревенскую харчевню! Я взял сюжетом моего этюда общий зал, который служил в то же время столовой. Старушка в платке – это сама матушка Антония; пышная девушка, подающая напитки, – это служанка Нана. Белый пудель Тото, у которого была деревянная лапа. За столом мне позировали мои друзья Сислей и Лекер. На фоне картины я изобразил стену харчевни с нацарапанными на ней рисунками. Это были незатейливые, но порою очень удачные наброски завсегдатаев харчевни. Мне самому случилось как-то нарисовать силуэт Мюржэ, который я воспроизвел на моей картине налево вверху. Некоторые из этих настенных украшений бесконечно нравились мне, я упорно советовал никогда их не стирать. Я даже думал, что навеки предохранил их от уничтожения, убедив матушку Антонию, что если дом когда-нибудь будет разрушен, она сможет получить хорошие деньги за эти фрески.
Следующим летом (1866) я поселился в Шальи, деревушке в окрестностях Марлотт, где я написал «Лизу». Однажды, когда я работал там «на этюдах», как говорил Сезанн, я услышал вдруг свое имя, произнесенное кем-то из кучки проходивших мимо молодых людей:
«Какой болван этот Ренуар! Уничтожить такую забавную живопись, чтобы на ее место повесить свою тяжеловесную мазню!» А произошло вот что: Анри Реньо, уже знаменитый в то время, побывал у матушки Антонии. Он был оскорблен грубоватой карикатурой: кто-то из шалунов ухитрился преобразить рисунок голого зада старой дамы в лицо усатого ворчуна!
«Сотрите поскорей пожалуйста эти ужасы, – вскричал Реньо. – Я напишу вам на этом месте что-нибудь художественное».
Доверчивая матушка Антония позвала маляра, а Реньо, как и следовало ожидать, уехал и не подумав сдержать своего обещания. Когда пришлось маскировать пустое место на стене, вспомнили о моей картине, остававшейся на чердаке, и повесили ее.
Я. – А «Лиза», о которой вы говорили, была ли она принята в Салон?
Ренуар. – Да, в Салон 1867 г., в год Всемирной выставки. В этом же самом году я написал «Общий вид Всемирной выставки», который я закончил лишь в 1868 г. Эта скромная картина была сочтена неприемлемо-дерзкой. Долгие годы она оставалась где-то в углу в Лувесьенне, где жила моя семья.
Но Всемирная выставка не была единственным сенсационным событием 1867 года. В этом же году состоялись персональные выставки Курбе и Мане.
Я. – Вы знали Курбе?
Ренуар. – Я хорошо знал Курбе, одного из удивительнейших типов, какие я когда-либо встречал в жизни. Я вспоминаю, например, один случай во время его выставки 1867 г. Он выстроил себе нечто вроде полатей, откуда наблюдал свою выставку. Когда появились первые посетители, он как-раз одевался. Чтобы не упустить чего-нибудь из восторгов публики, он спускался во фланелевом жилете, не теряя времени на надеванье рубашки, которая оставалась у него в руках, и начинал, рассматривая свои картины: «Как это прекрасно, как это великолепно!.. Можно обалдеть от этой красоты!» И он все время повторял: «Просто обалдеть!»
А на одной выставке, где его картины повесили около самой двери, он объявил: «Глупо, – ведь соберется толпа и никто не сможет пройти!»
И, разумеется, так восхищался он только своей собственной живописью. Вот комплимент, который он сделал однажды Клоду Моне, своему большому другу:
«Какую дрянь ты посылаешь в Салон! Но как это их обозлит!»
Я. – Нравится вам живопись Курбе?
Ренуар. – О вещах, которые сделаны в начале его карьеры, я не говорю… Но с того момента, когда он стал мосье Курбе!..
Я. – А картина, нашумевшая так: «Здравствуйте, мосье Курбе»?
Ренуар. – От нее остается впечатление, будто художник должен был провести месяцы перед зеркалом, «заканчивая» кончик своей бороды… А этот несчастный маленький мосье Брюйаз, согнувшийся так, словно ему на спину льет дождь… Поговорим лучше о «Девушках на берегу Сены»! Вот великолепная картина! И этот же самый человек, который сделал ее, написал портрет Прудона и затем еще этих кюрэ на ослах…
Я. – Я слышал от почитателей Курбе, что если картина эта слабее других, то это потому, что ему не хватало нужной натуры – вместо настоящих кюрэ ему позировали переодетые натурщики…
Ренуар. – Натура – вот еще одна из маний Курбе! Чтобы работать «с натуры», он устроил специальную мастерскую и привязывал теленка на постаменте для натуры!..
Я. – Но однако молодому художнику, написавшему голову Христа, Курбе сказал: «Вы, вы знакомы с Христом? Отчего не пишете вы лучше портрет вашего отца?»
Ренуар. – Это неплохо… но если бы это говорил кто-нибудь другой; у Курбе это звучит хуже. Это вот так же, как когда Манэ написал своего Христа с ангелами… Какая живопись! Какое живописное тесто! А Курбе сказал: «Видал ты ангелов, ты сам; ты знаешь, что у них есть задницы?»
Я. – Есть выражение, которое употребляют всегда, говоря о Курбе: «Как это сильно!» Ренуар. – Как-раз то же самое не переставал говорить Дега перед вещами Легро; но мне, видите ли, мне-то простая тарелочка в одно су с тремя красивыми тонами на ней нравится больше, чем километры живописи архи сильной, но надоедной!
Я. – А каковы были отношения между Мане и Курбе?
Ренуар. – Мане питал пристрастие к Курбе, который, напротив, совсем не ценил живописи Мане. Это было совершенно естественно: Курбе еще принадлежал традиции, Мане был новой эрой в живописи. Впрочем, нечего и говорить, что я не так наивен, чтобы утверждать, что в искусстве бывают течения абсолютно новые. В искусстве, как и в природе, всякая новизна есть в сущности лишь более или менее видоизмененное продолжение прошлого. Но при всем этом революция 1789 года положила начало разрушению всех традиций. Уничтожение традиций в живописи, как и в других искусствах, происходило медленно, с такой неуловимой постепенностью, что такие по-видимому наиболее революционные мастера первой половины XIX века, как Жерико, Энгр, Делакруа, Домье, еще целиком пропитаны старыми традициями. И сам Курбе, с его тяжеловесным рисунком… Между тем в лице Мане и нашей школы выступило поколение живописцев как-раз в тот момент, когда разрушительная работа, начавшаяся в 1789 г., оказалась законченной. Конечно кое-кто из этих новых пришельцев охотно обновил бы цепь традиций, огромную благотворность которых они подсознательно чувствовали; но для этого прежде всего следовало научиться ремеслу живописца, т. е., полагаясь на свои собственные силы, начать с простого, чтобы достичь сложного, подобно тому как необходимо сначала овладеть алфавитом, чтобы прочесть книгу. Понятно поэтому, что все наши старания были направлены к тому, чтобы писать елико возможно проще; но понятно также, что наследники старых традиций, начиная с тех, кто, не понимая их сами и вульгаризируя подобно Абелям Пюжолям, Жеромам и Кабанелям, превратили их в общее место, и кончая такими живописцами, как Курбе, Делакруа, Энгр, – все могли оказаться растерянными перед произведениями, которые им казались лубками из Эпиналя…
Домье однако же, осматривая выставку Мане, обронил такие слова: «Мне совсем не нравится живопись Мане, но я нахожу в ней следующие удивительные качества: она возвращает нас к Ланчелоту[23]». И та же причина, которая привлекла Домье, оттолкнула Курбе от Мане. «Я вовсе не академик, – говорил Курбе, – но живопись – ведь это не игральные карты».
Я. – Каким образом Мане, любивший Курбе, мирился с преподаванием Кутюра?
Ренуар. – Было бы несправедливо сказать, что он мирился… К Кутюру он пошел, как отправляются туда, где можно иметь модель… даже к какому-нибудь Робер-Флери…
Я. – Тому самому, о котором говорили Мане: «Послушайте, Мане, не дурачьтесь… Человек, который уже одной ногой в могиле…» на что Мане отвечал: «Да, но в ожидании могилы… другую ногу он держит в жженой сьенне…»
Ренуар. – Между Мане и Кутюром мир не мог продолжаться долго. Они расстались с таким напутствием со стороны мэтра: «Прощайте, молодой Домье!»
V. Гренуйер (Лягушатница) (1868)
Ренуар. – В 1868 году я много писал на Гренуйер. Там был такой забавный ресторан Фурнэза; это был постоянный праздник, и, потом, – какое смешанное общество!..
Читали вы «Жену Поля» Мопассана?
Я. – Эту историю молодого человека, который бросился в воду потому, что его подруга изменяла ему с женщиной?
Ренуар. – Ну, там Мопассан несколько преувеличил. В самом деле, на Гренуйер можно было видеть иногда целующихся женщин, но какой у них был невинный вид! Тогда не было еще этих шестидесятилетних женщин, наряженных двенадцатилетними девочками, с куклой подмышкой и серсо в руках! В те времена еще умели смеяться! Механика еще не овладела жизнью; у каждого еще было время для жизни и его не теряли напрасно. Одно было неприятно на Сене, теперь такой чистой, – это плывущие по течению трупы животных. На моих глазах река мало-по-малу очищалась, пока наконец лишь в редких случаях можно было увидеть труп собаки, который, к моему удивлению, оспаривали лодочники, сражаясь веслами. Потом я узнал, что невдалеке устроили колбасную фабрику.
Я постоянно пропадал у Фурнэза. Там я находил сколько угодно превосходных девушек, которые мне охотно позировали; тогда еще не приходилось, как теперь, преследовать маленькую модель в течение часа с риском оказаться в конце концов только противным стариком. Я приводил с – собой к Фурнэзу многих клиентов; в благодарность он заказал мне свой портрет и портрет своей дочери, грациозной мадам Папильон. Я изобразил папашу Фурнэза в белой куртке кондитера, пьющим стаканчик абсента. Этот холст, принятый, тогда как верх вульгарности, впоследствии, когда мои работы стали цениться на аукционах Друо, был объявлен изысканной вещью. И те самые люди, которые сегодня с такой уверенностью говорят об утонченной манере портрета папаши Фурнэза, сами не рискнули бы разориться на пять луи за портрет в те времена, когда пять луи мне были бы так полезны! Единственная польза от моих друзей для меня заключалась в том, что они заставляли позировать мне своих подруг – славных, добрых девушек.
И если случайно я получал платный заказ на портрет, то сколько трудностей приходилось преодолеть, чтобы получить деньги! Мне особенно памятен портрет жены сапожника, который я сделал за пару ботинок. Всякий раз, когда я считал картину уже готовой и посматривал на свои ботинки, являлась тетушка, дочь, или даже старая служанка:
«Не находите ли вы, что у моей племянницы, моей мамы, нашей барыни нос немного короче?..»
Чтобы наконец получить свои ботинки, я сделал заказчице нос мадам Помпадур. Но тогда начиналась новая история: только-что глаза были совсем хороши, между тем как теперь кажется, будто бы… и все семейство теснилось вокруг портрета в поисках еще не замеченных дефектов. А хорошее все-таки было время!..
И все это пустяки, если вспомнить случай с моим приятелем Б., который спросил меня как-то, что я возьму за портрет его «маленькой подруги». Я ответил ему: «50 франков». Тридцать пять лет спустя он привел ко мне женщину, в которой не было ничего ни на су:
«– Мы – позировать для портрета», – сказал он.
«– Какого портрета?»
«– Ну вы же сами знаете, Ренуар, еще до 1870 года, помните, вы обещали мне сделать женский портрет за 50 франков? Вот, видите ли, мадмуазель – дочь генерала, у нее дворянские грамоты!»
Я должен был подчиниться, но, шутки ради, попросил свою патентованную модель снять шляпу с цветами, убрать муфту и маленькую собачку; словом, я лишил мою модель всех тех аксессуаров, которые в глазах любителя являются главными достоинствами картины[24]…
Я. – Вы начали рассказывать о ваших первых картинах времен «Гренуйер», т. е. написанных в 1868-69 гг., – не к этому ли времени относится большой снежный пейзаж с фигурами?
Ренуар. – Да, конькобежцы и гуляющие в Булонском лесу. Я всегда терпеть не мог холода, и что касается зимних пейзажей, то вот только всего… Я вспоминаю, впрочем, два-три маленьких этюда. И к тому же, если и не бояться холода, то стоит ли писать снег, эту проказу на природе?!
Я. – Не к тому ли времени относится «Гарем»?
Ренуар. – Да, «Гарем «действительно 1869 года. Эта картина сохранилась благодаря чистой случайности. Вскоре после того как она было написана я менял квартиру. Я всегда старался отделаться от больших холстов, покидая мастерскую; поэтому я оставил там картину. Когда консьержка спросила меня, все ли я взял, я поторопился сказать «да» и шмыгнул за дверь. Я забыл и думать об этой вещи. И вдруг, много времени спустя, на той же улице какая-то женщина подбегает ко мне: Вы не узнаете меня, я ваша прежняя консьержка. Я постаралась сохранить картину, которую вы забыли у меня…»
«– А, спасибо, я зайду взять ее.»
И я твердо решил не ходить никогда по этой улице. Время шло. Однажды, проходя отдаленным кварталом, я опять нос к носу столкнулся с этой доброй женщиной:
«А ваша картина, помните?» – вскричала она.
Тогда я понял, что эта заколдованная картина будет преследовать меня всю жизнь, и чтобы избавиться от этой напасти, мне придется потратить мои кровные 40 су на фиакр!.. Позже я продал «Гарем» с одиннадцатью другими холстами, все вместе за пятьсот франков. Там были «Тоннель», «Портрет Сислея», «Женщина, приложившая палец к губам», и портрет самого покупателя… человека, который был мне хорошо знаком. Не догадываетесь, о ком я говорю? Кондитер, ставший художником… Однажды я зашел к нему купить пирожное. Я застал его закрывающим ставни лавочки. «Решено, – сказал он мне, – я бросаю свое печенье, чтобы стать художником. В нашем проклятом ремесле стоит пирожному пролежать неделю, как его приходится продавать со скидкой. Вы же, художники, вы – хитрюги с вашим товаром, который никогда не портится и даже с годами повышается в цене!»
Этот «Гарем», о котором я только-что рассказал вам, Воллар, напомнил мне о другой вещи, написанной в том же году и изображающей «Восточную женщину». Я написал ее в Париже, в мастерской. Моделью была жена торговца коврами… Вот, пожалуйста, при этой мании любителей к моей старой манере, вот дело для вас: попытайтесь-ка найти эту картину.
* * *В течение ряда лет я справлялся у всех торговцев коврами о «Восточной женщине». Наконец, однажды мадам И., антикварша, у которой был магазин на Больших бульварах, почти рядом со мной, приглашает меня полюбоваться своим портретом кисти Бенжамэна Констана. «У меня есть еще и другой портрет, но он написан менее известным художником. Я бы охотно рассталась с ним».
Я не полюбопытствовал справиться об этом.менее известном» художнике, но, отправившись после нескольких приглашений посмотреть Бенжамэна Констана, я услышал от мадам И.:
«Нам посчастливилось найти только-что покупателя, который заплатил 300 франков за мой другой портрет, который писал какой-то Ренуар еще тогда, когда я торговала восточными коврами».