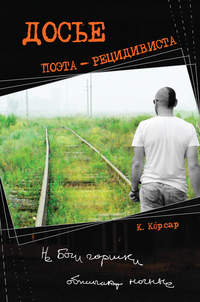
Досье поэта-рецидивиста
Дела шли хорошо. Мама со временем привыкла к весьма специфической работе сына и лишь изредка говорила о будущем, о сплетнях и слухах, о женитьбе и об уважаемой работе инженера, учителя или врача.
После работы Дениска шёл домой, мылся, переодевался и направлялся, как и его друзья, когда в компьютерный клуб, когда на дискотеку или куда-то ещё. Очень любил он кататься на речных трамваях, смотреть на скачки и красивых девушек, которых сильно стеснялся. О работе никогда никому не рассказывал, а если и трепался, выпив лишнего, то его слова случайные знакомые принимали за злую шутку и веселились вместе с Дениской, видя в карманах у парня солидную наличность.
Поздним вечером, после очередного трудового дня и весёлого кутежа, почти уже возле дома к Дениске подошли двое. Два парня, взгляд которых источал решимость, торс – спортивное прошлое, а сбитые кулаки – суровое настоящее, с улыбкой на лице и свинцом в голосе приказали отдать все деньги, что были в карманах, и больше не показываться в переходе. Денис закричал и тут же получил удар в почку, попытался закричать второй раз и, схватившись за голень, упал, скорчившись от боли.
Он не умел драться, уворачиваться от ударов, и поэтому скоро его тело горело и ныло от боли. Это были его последние ощущения в жизни – страшная боль и звериный рык двух существ, методично, без неприязни, обыденно, как на тренировке, забивших его до смерти. У смерти нет косы – она мила, нежна и естественна, как рука мясника.
Зимой Дениска снимал с себя верхнюю одежду и, превозмогая мороз, в одной рубашке, без головного убора сидел на своей паперти. На бетонных ступенях подземного перехода он часами трясся от лютого влажного сибирского мороза, пока в его карманах не оказывалось нужное количество пахнущих, как ничто другое в мире, разноцветных бумажек с водяными знаками.
Как много видел он доброты в своей жизни, как много сочувствия, понимания и помощи ему доставалось. Его искренно жалели – неповзрослевшего, убогого, раздетого, измождённого парня, просящего милостыню. Он получал от прохожих всё то, что не доставалось тысячам бездомных, обитающих в подвалах, брошенным детям из домов ребёнка, как будто специально вынесенных на окраины городов и посёлков с глаз долой. Дениска сидел в одном из самых проходимых подземных переходов города. Тысячи глаз смотрели на него за день и сотни рук помогали, чем могли, иногда отдавая предпоследнее.
Добро и зло в жизни должны уравновесить друг друга, и когда это происходит, жизнь человека кончается. Всё приходит в равновесие: вода течёт вниз, дождь падает на землю, камень превращается в пыль, дерево в пепел, душа – в равномерно вымешанный раствор, из которого Создатель лепит уже нечто совершенно иное. Жизнь Дениски кончилась, когда стрелки его личных весов сошлись, когда он познал и плохое, и хорошее, когда добро и зло уравновесили друг друга.
Моей КАА
Я там, где закаты багряны,Лучина где тлеет в ночиИ всполохом сердце объято.Я там, где лишь мы – я и Ты!Где ладан неспешно струитсяИ крылья любви сплетены,Где дум наших, чувств колесницыУносят печаль до зари…Лишь эхо сейчас между намиИ мыслей витая струна.Я серой бескрылою птицейЛечу за Тобой в небеса.Меж нами лишь эхо, лишь эхо…Меж нами немая толпа,Меж нами позёмка тумана —Меж нами ничто. Навсегда!Алла Ткачёва. Навсегда
Жизнь, несомненно, – испытание. Причём для каждого своё – индивидуальное и неповторимое, иногда лёгкое и забавное, а иногда изматывающее, неподъёмное. Невидимые учителя возводят для своих учеников высокие барьеры загадок, проблемы с узкими, тесными проходами и лабиринты невзгод, а затем с интересом наблюдают, как мы поведём себя в ситуации неопределённости и недосказанности, неясности исходных данных, условий и возможностей.
Иногда учителя заигрываются и создают преграды невероятной сложности. Они понимают, на что обрекают своих учеников. Но сами как будто ждут чуда – надеются на случай, на то, что сами они не всемогущи и не абсолютно сведущи. Ожидают от нас прорыва, чего-то не-возможного, не-веданного, не-земного… Но чаще этого не происходит.
Буся появилась из ниоткуда. Алла нашла её на улице и принесла домой. Мягкий белый комок на кровати придал жизни Аллы хоть какой-то смысл. Буся изменила всё – ночи сделала чуть теплее, дни нежнее и пушистее, утро игривым и трогательным, вечер ленивым и умиротворяющим. Алла получила друга – единственного во всем мире, который, как она думала, никогда её не предаст и не оставит.
Испытания начались в жизни Аллы слишком рано. Всемогущий Педагог, не соблюдая принцип природосообразности, взвалил на девочку то, что вынести ей было ещё не по силам, – выбил из-под её ног опору, разрушив семью. Отец пил, и Алла, войдя в мир, получила это проклятье как данность. Она ничего не могла поделать и изменить. Ей оставалось лишь отделиться от семьи и создать свой мирок – мир идеальный, где всё искренне, нежно, надёжно и красиво, да окружить его частоколом из своих стихов – острых, угловатых, колючих.
Даже талант Алла не получила при рождении – она его создала сама, а не открыла, взрастила в себе, а не обрела. Наверное, только так и бывает. Талант не даётся – его познают! Её стихи – простые, но трогательные, с повторами и простейшей рифмой – переполнены болью и горечью, высохшими слезами и запёкшейся печалью. Строки обжигают, ранят, но всё же обновляют и лечат душу. Её стихи о смысле и жизни, о бессмысленности и смерти, ненависти и предательстве были её защитой и проводником в этом мире.
Чужая боль сейчас не трогает,Свою бы нынче пережить,Друг другу словно незнакомые,Не успеваем нынче жить.(Алла Ткачёва)Не самый хороший сотовый телефон – единственное, чем обладала Алла. Это было её окно в мир, окно в другую жизнь, где такие же, как она, искали себе подобных, в социальные сети, где она жила так же искренне, по-ангельски наивно и благородно.
Однажды Буси не стало. И хоть за десять месяцев кошка стала самым родным на земле существом, Алла почти не выдавала своего горя. Она уже привыкла к потерям и одиночеству, к предательству самых родных людей, к отсутствию самих понятий «дом», «семья» и «тыл». Алла не плакала, слёзы всё равно не помогли бы – она знала это. И Алла просто ушла… Выключила однажды свой телефон и больше не включила. Ни с кем не попрощалась и не позволила сделать это другим.
Чудо жизни и свою правоту, когда ты один во всём мире, можно доказать – но доказать лишь смертью, причём своей собственной, как это сделала она – Алла Ткачёва, человек с трудной судьбой и чистой совестью, с болью в сердце и музыкой в душе. Она ушла, чтобы навсегда остаться с нами, обрести своё право на жизнь без ужасных испытаний и свободную дорогу к Истине, потому что со смертью как с последним доводом не поспорит никто. Никто! И даже он – наш Учитель. Это был его урок.
Алла, я помню и люблю тебя!
Большой адронный коллайдер
Очень многие физики хотели бы работать на Большом адронном коллайдере, но берут туда не всех, а только самых умных. Что же остаётся делать остальным желающим?
Это не пригодившиеся манекенщицы могут пойти в проститутки или торговать мясом на базар, что, в принципе, одно и то же. Никому не нужные учителя могут пойти в дворники или уборщицы. Уволенные милиционеры – в бандиты, воры после отсидки – в адвокаты. Мэр, губернатор или президент могут, если их не посадят обратно, вообще никогда не работать, так как у них жёны и тёщи золотые.
Отвергнутые наукой физики не могут больше никуда в жизни приткнуться. И многие тихо спиваются.
Лишь избранные садятся в машину, выпивают с горя, а некоторые для просветления сознания, и решают доказать всем, что достойны работать на БАК. Они разгоняют машину побыстрее и врубаются на ней в столб (но тогда их берут только в Курчатова) или другую тачку на дороге. Выходят и начинают анализировать, из чего состоял автомобиль. Пьяных от счастья, их принимают работники ДПС и препровождают на экспертизу и в суд. Тех, кто после такого эксперимента сохранил тягу к науке, обязательно принимают на работу в CERN.
Мысли из никуда
Отдыхай на полную вертушку.
Попал в Di Ti Pi.
Пока, Тимур! Все дома!
Со всеми на ты, но на Вы.
Обнажёлтая женщина.
Снежная каша, чайный лед, винные заносы.
Противно естественный отбор.
Ни в суму не всунуть
Я без перчаток таю в кабаках.Полярен всем и своему нутру.Осатанев в мирах вельможных Оргов,В закат Италии раздробленной бреду.И, припадая в грязь сердец челом,Сжираю зверя, разговляясь в тризну,Сжигаю Дом огнём в печи мирскойИ обретаю мИР как дар Марксизма.Не уместить любовь на кончике ножа,Ни в шляпу, ни в суму не всунуть.Я БОМЖ любви, я просто БОМЖ a'laИталий… Мож, в Россию сунут —В политсортир где выплывет сильнейшийВ искусстве отнюдь не познания душ.Он кал раздаёт как источник чистейшийУ узких дорожек для жёнов и муж.(Аркадий (Адий) Кутилов. Неизданное. Омск. 1982 год)Гребешок
Когда тебе за сорок, государство, обещавшее на днях торжественно вручить тебе ключи от отдельной трёхкомнатной квартиры и забрать от комнаты в полуразвалившемся бараке-коммуналке да поставить в очередь на авто, кануло в небытие вместе со всеми надеждами и обещаниями; работа, которой ты всю жизнь гордился, вдруг оказалась никому не нужной и зарплата превратилась в милостыню; ты похоронил ещё не до конца повзрослевшего сына, погибшего в бессмысленной драке, и жену, сгоревшую за полгода от горя, то самое время налить, выпить, закурить и основательно призадуматься, зачем же человек живёт на планете Земля.
Дядя Вова был крепким, неглупым, симпатичным мужиком. Нормальный он был, обычный. Ничем внешне особо не выделялся из толпы советских и постсоветских граждан. Только одно бросалось в глаза: был он до смешного вежливым. «Здравствуйте» никогда не сокращал до «здрасьте», а нараспев произносил это приветствие, глядя в глаза собеседнику или встретившемуся по пути знакомому, показывая искренность своих слов, лишённых даже намёка на формализм. Всегда крепко жал руку, считая, что вялое рукопожатие – удел женщин. Редко матерился, крайне редко, а если уж и сквернословил, то только по делу и только если был уверен на сто процентов в своей правоте.
Полстраны во времена его молодости работали на оборонку – это было престижно и выгодно. Дядя Вова был одним из миллионов простых трудяг и двадцать лет вкалывал на оборонном заводе, как того хотели от него Партия и Страна Советов, крутил гайки на танках. Он никогда не знал всего цикла производства сорокатонной махины и лишь иногда видел продукцию в сборе – когда пробирался тайком к выпускным воротам завода, откуда выезжали своим ходом, рыча и гудя, как огромные псы, уже полностью готовые многотонные исполины. Радуясь, что частичка его труда уезжала по специально построенной, облицованной стальными листами дороге на близлежащий, огороженный бетонным забором испытательный полигон, он уходил с чувством собственной значимости и нужности стране. Каждый раз, когда очередная партия Т-60, а позже Т-72 и Т-80 покидала цеха, он с восхищением и одновременно с грустью выпивал, не торопясь, бутылку дешёвого портвейна, всматриваясь вдаль из своего окна на втором этаже.
В восемнадцать лет дядя Володя женился на своей бывшей однокласснице, как делали многие в то время. Особого времени бегать знакомиться и «гоняться за юбками», как он сам говорил, не было, да и Маша его любила. Так и поженились. Никакой свадьбы – роспись в книге загса, поцелуй, больше похожий на дружески-коммунистический, – и толстая женщина в сером, совершенно не праздничном платье объявила их мужем и женой. Маша была работящей и доброй женщиной. Никогда не бранилась, хоть была из простой рабоче-крестьянской среды. Жили они в мире и согласии. Вскоре появился сын.
Поначалу Вова сторонился ребёнка, считая, что не должен менять ему пелёнки или обстирывать, но через полгода привязался к маленькому человечку, очень похожему на какого-то ранее неизвестного родственника, и часто носил его на руках во время прогулок, не пользуясь коляской.
Сын подрастал. Пошёл в школу, расположенную неподалеку, а квартиру так и не предоставляли. Маша хотела второго ребенка, но жилая площадь не позволяла, а ходить по собесам и унижаться, выпрашивая лучшей доли, дядя Володя не пошёл бы никогда. Никогда он ни у кого ничего не просил – сам всего достигал, сам был за себя и свою семью в ответе и считал сие нормой, а не чем-то героическим и заслуживающим одобрения или отдельной похвалы и уважения.
– Один ребёнок – мало, – говаривал дядя Володя, – что случись, не переживём горя. Надо второго рожать. Вот квартиру дадут – обязательно второго заведём, а может, ещё и третьего.
Но мечтам не суждено было сбыться.
Началась перестройка. Началась с пространных речей, и никто не мог предположить, во что они выльются. Не было никакой конкретики, никто не знал, что делать, и поэтому ничего просто не делалось. Страна встала колом, остановилась, как жернова, не смазанные маслом и не получавшие зерна для помола. Замерла и надежда дяди Володи на улучшение жилищных условий, а в девяносто первом окончательно умерла, когда государства, в котором он родился и вырос, не стало, когда правительство отказалось от всех социальных обязательств, отпустив цены и бандитов, казалось, специально выпущенных из тюрем и клоак, чтобы запугать население, удержать его страхом от недовольства и выступлений.
Конверсия и приватизация увенчали и без того нелёгкое положение дяди Володи – он фактически потерял работу. Весь завод приходил, как и раньше, в цеха к восьми утра, но только для того, чтобы прочитать написанное от руки корявым почерком объявление о продлении административных отпусков на неопределённый срок.
Сын закончил школу, отслужил в армии. Дедовщина была страшная, как и жизнь в стране, но Ваня с честью перенёс это испытание. Бывал бит не раз ни за что, но, став старослужащим, не вымещал на других свои былые обиды. После армии вернулся другим человеком – повзрослевшим, понимающим, что надо что-то в стране и в собственной жизни менять. И изменил. Только вот изменения эти не принесли никому счастья. По стопам отца и матери, которая проработала всю жизнь санитаркой в медсанчасти, идти было бессмысленно – удовлетворения работа не приносила ни морального, ни материального, поэтому, посмотрев, как хорошо живут некоторые бывшие одноклассники, он влился в бригаду к местных уркам, что занимались рэкетом и крышеванием. На одной из первых же разборок его и убили. Предательски – воткнув нож в спину. Милиция долго разбираться не стала – перебили, мол, друг друга бандиты, и всем от этого только легче, что голову ломать. Мать пережила единственного, любимого сына лишь на полгода.
И дядя Володя запил. Крепко запил, неудержимо.
– Это и понятно, – говорили соседи, – зачем ему жить теперь. Всё, что имел, прахом пошло, вот и убивает так себя, чтобы поскорее отправиться к своей родной и любимой да хоть и взрослому, но всё же ещё такому маленькому, не познавшему радостей жизни сынишке.
Пил он со всеми, с кем мог: с косыми и горбатыми, хромыми и дурно пахнущими, со всеми, кто мог пить или у кого было что выпить. В выборе напитков также не отличался разборчивостью. Пил технический спирт, денатураты, самогон, водку, когда удавалось достать, лосьоны, брагу – всё, что приводило его в иной мир – в мир, где не было горя и печали, где не было страха, боли, страдания, где всё ясно и понятно, где правит королева Забвение.
Естественно, ни о какой работе речи не было. Жил дядя Вова тем, что найдёт на помойке, на деньги от сдачи бутылок или металла.
Бывал дядя Володя и трезвым. Странное это было зрелище. Он не производил впечатления пьяницы в такие часы, и казалось, что вчера им опорожнена последняя бутылка, что следующие двадцать-тридцать лет крепче стакана молока в его руки ничего не попадёт.
Комната, в которой он жил, постепенно превратилась в притон. Уже давно была пропита вся мебель и интерьер. Из скарба остались постель, если можно так назвать изодранный матрац в углу, и висящая на стене репродукция картины «Охотники на привале», размноженная в восьмидесятые годы для половины жителей Союза. Замка в двери давно уж не было, и к нему мог прийти в любое время всяк, кто нуждался в крыше над головой да имел с собой бутылку.
Однажды вместе с другими скитальцами с изломанной жизнью в комнату дяди Володи попала и Люся.
Выглядела она как обычная алкоголичка: пропитая баба, относительно ещё стройная, с былой красотой на лице, обезображенной выпитыми декалитрами и пьяными драками в подворотнях. На вид ей было глубоко за сорок, но все знали что на самом деле ей около тридцати пяти. Так состарила её жизнь, а вернее, алкоголь, сигареты и проституция, которой ей приходилось заниматься в молодости, когда иного способа прокормить себя и двух малолетних сестёр у неё не было. Именно эта «работа» почти до основания выжгла ей душу, прожгла дыру, которую она и пыталась безуспешно законопатить литрами сначала ликёра и вина, потом водки и коньяка, а потом самогона и браги.
Вечер прошёл удачно. Как обычно, все напились и заснули мертвецким сном, впрочем, и бодрствующими все эти люди были мертвы – души их были умерщвлены. Но в этот вечер мир для дяди Володи изменился. Человек до конца остаётся человеком, и даже в этом омерзительном, грязном, ужасном мире есть место чистым, искренним чувствам. И они пробудились в его сердце, в его разуме. Он начал искать встреч с Люсей, стал меньше пить, чтобы сэкономить на бутылку, для того чтобы угостить её прозрачным ядом, который она почитала высшей ценностью, покупал «Тройку» вместо «Беломора», выпросил у кого-то расчёску и мыло, чтобы хоть немного привести себя в порядок.
В той среде не было места любви или дружбе, сочувствию или сопереживанию – был лишь алкоголь, заглушавший всё, все боли и горести, но одновременно, не разбираясь, уничтожавший все хорошее, ещё сохранившееся в человека. Эту плату вносил каждый, кто старался напиться и забыться, – личность уничтожалась со временем полностью, уничтожалось и злое, и доброе в человеке. Видимо, доброе не может существовать в человеке отдельно, без бед и горестей, без злости и греха, так же как ион долго не может быть в свободном состоянии и должен либо аннигилировать, либо соединиться с чем-то диалектично противоположнным себе.
Конечно же, дядя Вова и Люся не спешили кинуться в объятия друг друга, пожениться, бросить пить и зажить счастливой жизнью, но у них появилось, пожалуй, самое ценное в жизни человека – надежда, надежда на понимание, на заботу, на искренность, на поддержку, вновь появилось будущее. И надежда стала творить с ними маленькие чудеса. Они преобразились – не сразу, не вмиг, а постепенно, как будто помолодели лет на пять-десять, хотя всего лишь смыли с себя и своей одежды грязь месяцев, проведённых на полу, в грязных углах, в подворотнях. Им, как ни странно, стали завидовать те, с кем вчера они делили бутылку или нехитрую конуру, и зависть других ещё больше сделала их похожими на людей.
– Значит, мы не самые плохие, живём не хуже всех! – сказал как-то Люсе дядя Вова, откупоривая очередную бутылку.
Они всё так же пили, но теперь уже более осознанно – вдвоём, ради общения, а не как раньше – ради самой выпивки, хоть и в компании, но каждый наедине со своим горем внутри и своими проблемами, от которых уходили индивидуально. Они стали разговаривать и делиться тем, что пережили; от этого впервые в жизни захотелось перестать пить, уже становилось легче, выговорившись, они отпускали свою боль в самостоятельный полёт, и она не принадлежала уже только им. Разговаривая, они понимали, что жизнь не кончилась – ещё идет и они могут ещё многое успеть сделать, если не будут одни.
– У меня завтра день рождения, – услышала как-то Люся, – придёшь?
– Конечно, приду, – улыбаясь ответила она, – и даже подарю тебе подарок.
– Да не надо. Я всё организую. Главное, приходи, – попытался было отговорить её дядя Володя, но Люся настояла на своём.
– Я хочу, чтобы ты был у меня красивый. Жди меня с презентом в семь вечера, – сказала она интригующе.
Но в семь она не появилась. И в восемь, и в девять…
Вова волновался. Мысли, что она больше не придёт, лезли в голову, к утру он выпил все запасённое днём и решил, что она просто посмеялась над ним, попила, пожила и была такова.
– Пропитая потаскуха, – говорил он в сердцах, – как я мог так попасться, как ребенок? Вот гадина.
Он вышел из дома и пошёл знакомой улицей, высматривая бутылки или то, что плохо лежало и представляло хоть какую-то ценность. Палкой он ворошил небольшие горки снега, надеясь, что в них притаилась бутылка или банка, – как грибник, он ворошил белую листву в поисках желанного подосиновика или груздя.
Вдруг увидел мигающий синий фонарь вдалеке.
«Милиция. Лучше держаться от нее подальше», – подумал Вова и хотел было свернуть в проулок, но что-то потянуло на этот опасный, но одновременно манящий мерцающий огонёк. Подходил ближе и видел людей в форме, врача, ожидающего чего-то, людей в штатском, видимо, зевак, вспышки камер. Предчувствие беды прокатилось в нём волной. Он подходил всё ближе и всё больше боялся увидеть, что же там произошло, но неведомая сила заставляла побороть страх.
Подойдя совсем близко, он заметил окровавленное тело, вокруг которого, как на шабаше, плясали шаманы в синих кителях со звёздами на плечах, ритуальные танцоры в белых халатах, кружила толпа зевак, старающихся впитать в себя энергию, источаемую ещё не покинутым душой недавно умершим. Тело было накрыто простынёй, пропитавшейся кровью, как скатерть густым кетчупом, снег испачкан кровавыми каплями. «Кто бы это мог быть? – спросил он себя, – не повезло бедняге». Из-под покрывала торчала только рука, и, чтобы рассмотреть её, он подошёл поближе и тут же отшатнулся, как будто увидел руку самой смерти. Это была её рука! Без сомнения, это были её морщинистые, но ещё изящные пальцы, её шерстяной оберег на запястье. В руке было что-то зажато. Вытирая глаза от слёз, дядя Вова подошёл ближе, присмотрелся и увидел нечто – в этот момент струя раскалённого металла облила его сердце, он отошёл в сторону, оперся на забор и тихо осел на мягкую, как перина, запорошенную снегом землю.
В безжизненной руке был зажат её подарок – деревянный гребешок, перевязанный маленькой красной ленточкой, тот, что мог сделать его снова красивым и сильным, весёлым, способным на поступки и мечты, мог вдохнуть душу и разум, мог вернуть свободу и веру, мог вернуть к жизни.
Богатые, розовые витцы и оружие интеллигента
Деньги, говорят, портят. Это выражение придумали завистники и нищие или нищие завистники, а обеспеченные люди придумали фразу: «В бедности трудно сохранить хорошие манеры». Вот так и живут – одни без денег и хороших манер, другие с манерами, но основательно подпорченные презренным металлом. И те и другие плевать друг на друга хотели, считают друг друга бородатыми пасущимися копытными.
А ведь богатые – самые несчастные люди в мире. Завистники и воры постоянно хотят у них отнять нажитое непосильным трудом. И основной задачей богатых со временем становится работа по сохранению своих капиталов. Не походы в театр или концертный зал, музей или дом литератора, не воспитание детей и забота о родных, а примитивное корпение над тем, что уже есть. Поэтому все богатые могут после разорения смело идти в охранники – суть работы они прекрасно понимают.
Налоговые инспекторы что-нибудь у богатых постоянно норовят обложить налогом. Гаишники тянутся оштрафовать. Многочисленные родственники просят помочь. Все вокруг чего-то от тебя хотят, и никто не спрашивает, чего хочешь ты, кроме, возможно, официанта да автоответчика. Короче, жизнь у богачей не чай с малиной.
Больше всего толстосумы опасаются в жизни розового витца, потому что в нём ездят не люди. Иногда, конечно, попадаются пожилые женщины с внуками, но в основном в розовом витце ездят оборотни. И при виде пере-креста они впадают в ступор. Вурдалаки могут со страха без предъявы впиться в бок дорогой машине обеспеченного буржуа – и глазом не моргнут.
Также богатые боятся пролетариев и интеллигентов. Интеллигенты тоже боятся пролетариев, потому что те отмороженные. В дословном переводе «пролетарий» – это тот, у кого ничего нет, кроме детородных органов. То есть и полушарий головного мозга тоже нет – только инстинкты, изредка просыпающиеся и ревущие, как медведь-шатун. Главное оружие пролетариата – булыжник. Поэтому богатые в городах постарались обезоружить пролетариев и дороги мостят теперь асфальтом.
Интеллигенты избрали для себя более изысканное оружие – донос. Его не так просто изничтожить, как булыжник, поэтому интеллигентов богачи боятся, как Сталина в тридцать седьмом кулаки. Пролетарии доносов не боятся, потому что хуже им вряд ли уже станет.