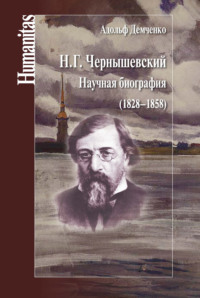
Н. Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858)
Вот рассказывает бабушка о переселении её родителей из прежнего прихода в новый, ближе к Саратову. Ехали на простой телеге с небогатым скарбом и девочкой-малюткой на руках, да вдруг повстречались им неизвестные с ружьями и сопровождали телегу вплоть до ночлега. А утром пораньше Мавра Перфильевна заставила своего мужа поскорее запрячь лошадь – так и уехали, полагала она, от разбойников. Эта история рассказывалась вовсе не затем, чтобы просто позабавить внучат сказкой. Пелагее Ивановне важно было показать, «как нерассудительны бывают люди», т. е. отец её, не распознавший разбойников. И только сметливость и рассудительность матушки спасли дело.
Другая история повествовала о неких богатых людях, которые поручили Мавре Перфильевне тайно воспитывать их младенца. Неизвестно, что заставило этих людей поступить так, но только она согласилась и заботилась о чужом ребёнке, как о своём. Однако младенец занемог и скончался. Не умри он – быть Мавре и её мужу Ивану Кириллычу более обеспеченными, потому что родители ребёнка обещали богатое вознаграждение. И опять: вовсе не «поэтическая сторона» (какое-то похищение, бегство, нежная, скрываемая от людей любовь и таинственная история с ребенком) занимала рассказчицу и слушателей, «а исключительно только то, что подвёртывалось счастье прадедушке и прабабушке, да ушло от них». И начинала свое повествование Пелагея Ивановна не с таинственных подробностей, сообщавших всей истории сказочный, легендарный элемент, а с характеристики Мавры Перфильевны как хорошей матери: «Заботливая, умывала нас, приглаживала головы, смотрела, чтобы рубашоночки на нас были чистенькие, опрятно держала нас, хорошо». Потому и обратились к ней с просьбой принять младенца на воспитание, что на всю округу прослыла она чистоплотной и аккуратной.
Ещё один запомнившийся Чернышевскому рассказ, «выходящий из порядка случаев обыденной жизни». В прабабушкиной или прадедушкиной семье не все были духовными. Некоторые, не получив мест, стали крестьянствовать. И вот однажды двух таких родственников захватили в плен «корсары» (киргиз-корсаки). Один прижился в плену, женился там и скоро сделался важным человеком, попав в милость тамошнему царю. Другой же пленный жил обыкновенным рабом, и ему, чтобы не убежал, в подрезанные пятки заживили пучок конских волос. «Однако ж и с подрезанными пятками наш родственник решился бежать» и, выдержав страшные физические мучения и все опасности погони и ловли в камышах, пришёл к своим и стал жить по-прежнему. Этот рассказ, подобно предыдущим, воспринимался как вполне реальное, а вовсе не мифическое событие, достоверность которого подтверждали происходившие и во времена детства Чернышевского пленения хивинцами работавших в поле крестьян. Бабушкины рассказы о старине были, писал Чернышевский, «почти единственным материалом сколько-нибудь фантастического содержания», но даже в них не заключалось ничего неправдоподобного или противоречащего «законам здравого смысла». И эти рассказы по-своему воспитывали Николая Чернышевского в духе старых семейных традиций, по которым служение Богу соединялось с естественными заботами практической жизни. Пересказывая бабушкины истории, Чернышевский настойчиво подчёркивает, что предки его были, как он выразился в одном из сибирских писем, «простые люди» (XV, 218), некоторые же «сделались мужиками» (I, 578). Близостью к народу объяснялся их повседневный жизненный уклад и мораль. «Материальный и нравственный быт нашего русского духовенства, – отмечал дореволюционный саратовский историк, – стоял в старину в тесной связи с народной жизнью и воззрениями; вышедшее большею частью из простого народа, оно имело те же пороки и качества, духовные воззрения, тот же умственный и нравственный уровень, предрассудки, суеверие и проч., как и наш простолюдин».[94] «Опытными пахарями» называл Чернышевский своего отца и двоюродного деда Ф. С. Вязовского (1789–1856) (I, 673), самых близких ему людей, жизненный путь которых был ему хорошо известен. В бесхитростных и правдивых рассказах бабушки Пелагеи Ивановны предки характеризовались как люди стойкие, храбрые, «умные, честные, энергические» (XV, 243), хотя и небогатые. «Священник, – писал Чернышевский, – это был особенного разряда нищий; нищий – почётного разряда; нищий, живущий, вообще говоря, не в голоде и холоде: или и вовсе не бедно. Но нищий» (XV, 243).
Суровые жизненные условия, мало отличающиеся от обстоятельств народного быта, способствовали формированию простого, лишённого праздности и тунеядства, вызванного естественными житейскими потребностями взгляда на жизнь. В семье преобладал «скромный и рассудительный порядок жизни» (I, 579). «Мы были очень, очень небогаты, наше семейство, – свидетельствует Чернышевский. – <…> Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но денег никогда не было! Потому ничего подобного гувернанткам и т. п. не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек»; «А наши старшие? – Оба отца писали с утра до вечера свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги. Они желали быть – и были, – нашими няньками. Но надобно ж обшить мужей и детей, присмотреть за хозяйством и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств» (XV, 152). «Они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от неё, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя – нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе» (I, 680).
Подобные характеристики, идущие от самого Чернышевского, лучше всего объясняют семейную обстановку, в которой он рос и воспитывался. «Строгий и строго нравственный образ жизни» с детства внушили Николаю Чернышевскому отвращение, например, к вину, «все грубые удовольствия» казались ему «гадки, скудны, нестерпимы» (XV, 373). «Отец Чернышевского, – замечает мемуарист, – был человек общительный, любимый прихожанами; но он чуждался собраний, особливо соединённых с пиршествами, далеко держал себя от лиц подозрительной нравственности и боялся, как бы в драгоценную зеницу его ока, в детскую душу его единственного сына, не попала какая-нибудь соринка».[95]
В связи с этим характерна такая подробность. Обучая одиннадцатилетнего Николая греческому языку, он однажды дал ему перевести фразу о том, что такое пьянство, и Николай записал свой перевод: «Пьянство – малое блаженство есмь». Г. И. Чернышевского такой перевод не удовлетворил, и после соответствующих объяснений его ученик, зачеркнув слова «малое блаженство», написал: «Пьянство – краткое сумасшествие есмь».[96]
Выше приходилось говорить, что Гаврила Иванович чуждался религиозного фанатизма. «Духовное» привычно рассматривалось родными Чернышевского «исключительно с земной точки зрения». Например, разговоры о церкви, архиерее носили как бы приземлённый характер. Понятие «церковь» наполнялось не только религиозным содержанием, но вмещало также мысли о поддержании церковного имущества и здания в надлежащем виде. «Церковь – это было у нас преимущественно «наша церковь», т. е. Сергиевская, в которой служил мой батюшка» и которая озабочивала «главным образом со стороны обыкновенного ремонта». Побелка церкви волновала всех домашних столько же, сколько толки о том, «делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя обветшала, или крыть дом железом». Разговоры об архиерее не превращались в религиозный панегирик главе епархии, а были разговорами о реальном человеке с его достоинствами и недостатками (I, 628–629). Подобный взгляд на «духовное» вовсе не противоречил религиозным убеждениям и не подрывал их ни явно, ни подспудно. Он придавал религиозности естественный человеческий смысл, не отвлекая верующего от земных забот, избегая всего фанатического, иезуитского. В «греческой» ученической тетради читаем характерную фразу: «Люби учение, умеренность, разум, истину, хозяйство, искусство, благочестие».[97]
В фанатических действиях и мотивах «все мои старшие вместе со всеми неглупыми людьми Саратова, – писал Чернышевский, – видели глупость, пошлость, тупость или злонамеренность; аскеты и аскетки были понимаемы моими старшими и всеми неглупыми людьми Саратова как люди играющие, дурачащиеся, забавляющиеся своими причудами, люди пустые или жалкие, глупые или дурные». Вот почему, по словам Чернышевского, фанатизм в любых его проявлениях «не имел никакого значения» ни в жизни его родителей, ни в истории его развития (XII, 498).
Отмеченные особенности воспитания сказались ещё на одной стороне «первой, очень важной эпохи развития» – чтении. Сильнее всех пристрастий «была в нём с детства, – сообщал Чернышевский о себе, – страсть к чтению» (XII, 681). Даже сильная близорукость, которой он страдал с малых лет, не могла стать препятствием. Установить точную дату первых уроков чтения не удается. По крайней мере, Чернышевский писал о себе, девятилетнем мальчике, что он «уже года два» рылся в книгах, доступных его рукам (I, 635). Первым его учителем чтения мемуаристы называют двоюродную сестру Любовь Николаевну Котляревскую.[98]
В семье Чернышевских-Пыпиных книга была насущной потребностью. Человеком «учёным» называли Егора Ивановича Голубева. Обе его дочери, «стремящиеся к знанию» (XII, 497), не чуждались книг, владели довольно хорошим слогом изложения. В этом убеждают, например, их письма, воспоминания, оставленные А. Е. Пыпиной. «Мать моя и тётка (её старшая сестра) чрезвычайно любили чтение», – свидетельствует А. Н. Пыпин.[99] Книга для обеих женщин, вспоминал Чернышевский, являлась лучшим отдыхом (I, 152).
«Патриарх семейства» Г. И. Чернышевский всячески поощрял чтение и образование. Сам он «в пределах его школы и даже дальше их, был человек образованный и начитанный», – писал А. Н. Пыпин, видевший его семинарские тетради с греческими и латинскими стихами.[100] Одно из стихотворений сохранилось: оно посвящено победе над Наполеоном в 1812 г.[101] «Зрелостью мысли и начитанностью» он превосходил даже преподавателей семинарии, имевших академическое образование.
Учёность саратовского благочинного проявлялась не только в сочинении блестящих проповедей и речей, произносимых во время всяческих религиозных служб и торжеств. Перу Г. И. Чернышевского принадлежит замечательное, до сих пор не утратившее ценности историко-краеведческое исследование, выполненное по заданию архиерея в 1856 г. История этой работы, которой Г. И. Чернышевский отдал пять лет жизни, вкратце такова. 21 октября 1850 г. духовно-учебное управление при синоде известило саратовского епископа о намерении издать пособие для изучения истории российской церкви и просило для сбора и обработки саратовского материала назначить человека, известного «по своим способностям и особенно по любви к историческим исследованиям». Тогдашний епископ Афанасий сразу же сделал выбор, возложив выполнение труда на Г. И. Чернышевского. В сентябре 1851 г. 57-летний протоиерей приступил к изучению материалов, и его переписка с епископом и уездными священниками говорит о тщательности плана и строгости избранной методики в описании сведений. 3 мая 1856 г. Гаврила Иванович докладывал Афанасию о выполнении работы, которая получила название «Церковно-историческое и статистическое описание саратовской епархии».[102] В декабре того же года сочинение отослали в синод, и там оно затерялось, пролежав без движения и пользы долгие годы. В 1878 г. по запросу из Саратова рукопись разыскали и отправили в саратовскую духовную консисторию. Здесь её читал П. Юдин, объявивший в 1905 г., что работа Г. И. Чернышевского «до сих пор не издана».[103] То же утверждали Н. Ф. Хованский,[104] Е. Ляцкий[105] и вслед за ними советские биографы Чернышевского.[106] Между тем рукопись была опубликована еще в 1882 г. в Саратове А. Правдивым.[107] Исследование Г. И. Чернышевского датировано 15 февраля 1856 г. и содержит ценные сведения о начале и распространении христианской религии в саратовском крае, о времени учреждения епархии, её иерархии, уникальные данные о саратовских монастырях и главнейших их церковных зданиях.
Почти все мемуаристы и Н. Г. Чернышевский свидетельствовали, что у Гаврилы Ивановича была довольно обширная домашняя библиотека. Какая-то часть книг досталась от умершего протоиерея Голубева. Из этих названий А. Ф. Раев припоминает «„Энциклопедический лексикон” и „Христианское чтение”, но были и другие книги».[108] Более подробные сведения о составе домашней библиотеки Чернышевских сообщил А. Н. Пыпин: «В его кабинете, который я с детства знал, было два шкафа, наполненных книгами: здесь была и старина восемнадцатого века, начиная с Роллена, продолжая Шрекком и аббатом Милотом; за ними следовала „История Государства Российского” Карамзина; к этому присоединялись новые сочинения общеобразовательного содержания: „Энциклопедический словарь” Плюшара, „Путешествие вокруг света” Дюмон-Дюрвиля, „Живописное обозрение” Полевого, „Картины света” Вельтмана и т. п. Этот последний разряд книг был и нашим первым чтением. Затем представлена была литература духовная: помню в ней объяснения на книгу Бытия Филарета, книги по Церковной истории, Собрание проповедей, Мистические книги.
Наконец (я говорю о времени около моего поступления в гимназию), к нам, – продолжал А. Н. Пыпин, – проникала новейшая литература. Гавриил Иванович, очень уважаемый в городе, имел довольно большой круг знакомства в местном богатом дворянском кругу, и отсюда он брал для сына, Николая Гавриловича (с детства жадно любившего чтение), новые книги, русские, а также и французские: у нас бывали свежие тома сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, некоторые журналы…».[109]
Дополнительные данные о числе и названиях книг, бытовавших в семье Чернышевских, предоставляют архивные источники. В январе 1842 г. саратовский епископ Иаков распорядился подготовить реестры имеющихся в наличии у духовенства книг. Собранные документы Иаков предписывал «хранить при делах как неизлишнее, а для истории полезное». В марте того же года требуемые сведения о библиотеках духовенства саратовской епархии доставлены епископу. В документе говорилось: «<…> Как оказалось по исчислению, сделанному в канцелярии семинарского правления по ведомствам благочинных: протоиерея Чернышевского духовенство имеет 529 экземпляров, священника Разумова 422 экземпляра, протоиерея Ремезова 108 экземпляров, священника Октотопова 62 экземпляра, протоиерея Диаконова 222 экземпляра, священника Ципровского 177 экземпляров, священника Левитского 161 экземпляр, протоиерея Элпидинского 355 экземпляров, священника Рождественского 655 экземпляров, протоиерея Казаринова 123 экземпляра, священника Волковского 321 экземпляр, протоиерея Лугарева 35 экземпляров, священника Покровского 75 экземпляров, всего 3867 экземпляров».[110] Как видим, самыми многочисленными оказались библиотеки священнослужителей города Саратова, подчиненных Г. И. Чернышевскому, и собрание книг у священников благочиния Рождественского. Из составленного Гаврилой Ивановичем реестра книгам городского духовенства видно, что на долю служителей саратовской Нерукотворно-Спасской церкви пришлось подавляющее количество книг – 282, остальные 247 экземпляров распределялись по библиотекам служителей девяти церквей (Воскресенской – 23, Казанской – 35, Спасо-Преображенской – 15, Единоверческой – 12, Александровской больницы – 12, Ильинской – 66, Вознесенской – 48, Кресто-Воздвиженской–12, Вознесенской на Сенной площади – 24). Число книг священнослужителей Нерукотворно-Спасской церкви, в которой Г. И. Чернышевский имел свой приход, было значительным благодаря библиотеке благочинного, у остальных их насчитывалось всего 35 (32 книги у священника Якова Снежницкого и три книги у дьякона Якова Подольского). В составленном Г. И. Чернышевским реестре его личной библиотеки (автограф) указаны следующие названия: «1. Библия на славянском, греческом и французском языках. 2. Новый Завет на славянском и русском наречии. 3. Новый Завет на греческом языке. 4. Толкование на послание к римлянам Иоанна Златоустого, старый перевод. 5. То же, новый перевод. 6. Толкование на евангелиста Матвея, его же, старый перевод. 7. То же, новый перевод. 8. К Феодору падшему, его же. 9: Камень веры. 10. Летопись Дмитрия Ростовского. 11. Поучения его же. 12. О должности приходских священников. 13. Огласительные слова Кирилла Иерусалимского. 14. Православное исповедание Веры, Петра Могилы. 15. Новая скрижаль. 16. Изъяснение на литургию, Дмитревского. 17. Беседы Макария Египетского. 18. Избранные сочинения Августина Иппонийского. 19. Вообще довольно значительное собрание книг богословских, философских, исторических и других назидательных на языках российском, греческом, латинском, немецком и французском». Рапорт Г. И. Чернышевского датирован 20 августа 1841 г.[111] По-видимому, Иаков сначала собрал сведения о библиотеках городских церковнослужителей, а затем – по остальным благочиниям.
Из документов видно, что личная библиотека Г. И. Чернышевского насчитывала 247 названий – среди духовенства города самая большая библиотека. Для епископа Иакова Гаврила Иванович указал сугубо религиозные книги. Однако, как видно из реестра, они не составляли большинства библиотеки. Таким образом, документально подтверждается факт, имеющий для исследования биографии Н. Г. Чернышевского важное значение: чтение юного Чернышевского было разнообразным и не ограничивалось религиозными сочинениями, а наличие книг на древних и новых европейских языках побуждало к изучению языков.
Довольно значительная по тому времени домашняя библиотека, обширные знакомства отца, доставлявшие немало книг со стороны, вполне удовлетворяли запросы юного Чернышевского. Потребность в чтении в столь грамотном и образованном семействе возникала сама собой. «Никто нас не „приохочивал”. Но мы полюбили читать», – вспоминал Чернышевский (XV, 152). Чиновник Н. Д. Прудентов вспоминал: «Я каждый день утром и в полдень проходил мимо дома Чернышевских и постоянно видел, как Н. Г., сидя в то время около крайнего окна к воротам, читал газету. Глядя на него, зависть брала. Отец важная и почтенная персона, и сын вышел в него: девять лет, а так усердно читает газеты».[112] Сколько можно судить по его позднейшим высказываниям, первоначальное чтение носило бессистемный характер. Автохарактеристика «Я сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано» раскрывалась в следующем не лишённом иронии перечне: «В десять лет я уже знал о Фрейнсгеймии, и о Петавии, и о Гревии, и об учёной госпоже Дасиер, – в 12 лет к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди вроде Корнелиуса а Лапиде, Буддея, Адама Зерникова (его я в особенности уважал)». Потом к этому списку приплюсовались «Великие Четьи-Минеи», переводы романов Ж. Санд в «тогдашних «Отечественных записках», ранние переводы Диккенса, «я знал чуть ли не все лирические пьесы Лермонтова», «я читал с восхищением „Монастырку” Погорельского», «я читал решительно всё, даже ту „Астрономию” Перевощикова, которая напечатана в четвёрку и в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул» (I, 632–636). В одной из своих рецензий 1860 г. Чернышевский, вспоминая детство в «10, 12 и 14 лет», писал, с каким «восторгом» перечитывал «раз двадцать в римской истории Роллена период Самнитских войн» с описаниями сражений, но зато «с пренебрежением перевёртывал эротические страницы» в иных произведениях, к которым, например, относился «скандальнейший роман покойного Степанова, кажется „Тайна”, а может быть „Постоялый двор”», или в романах Поль де Кока забавляли «уморительные приключения» и оставались «без всякого внимания» любовные интриги (VII, 446).
Любопытен и показателен пример с отношением к «Четьям-Минеям», извлечённым однажды из шкапа по желанию бабушки Пелагеи Ивановны и занявшим несколько вечеров для чтения. В первый день читала старшая кузина (Любовь Котляревская), и бабушке понравилось. На другой вечер читали снова, и на этот раз в чтении участвовал Николя. Но вот, «постепенно сокращаясь в размере приёмов и растягиваясь в рассрочках между приёмами», чтение замерло «на несколько недель», а потом и вовсе оставлено. Книгу взяла читать сестра бабушки Анна Ивановна, но и у той закладка ненамного передвинулась вглубь, и «скоро стало ясно, что книга даром лежит у неё на столе». Через несколько времени Анна Ивановна положила книгу на свой шкап, и она «возобновила на новом месте прежнюю безмятежную жизнь». Сам Николай читал религиозные «Четьи-Минеи» «очень много», но «совершенно пропускал проповеди и краткие жития, читал исключительно только длинные, состоящие из ряда отдельных сцен, рассказанных вообще с беллетристическою обстоятельностью или с анекдотическою живостью. Это читалось легко и с удовольствием» (I, 635–637). Чем же объяснить столь пренебрежительное отношение к книге, которая как сборник преданий о русских святых должна была бы пользоваться успехом в религиозной семье? Чернышевский не случайно так подробно описывает историю чтения «Великих Четий-Миней», вкрапливая воспоминания в рассказ об образе жизни своих старших, которые чуждались «элементов, располагающих рассудок портиться привычкою к неправдоподобному» (I, 580), и аскетизм святых не находил отклика у них, людей «обыденной жизни».
Неправильно было бы считать подобное отношение к духовной литературе о святых чем-то вроде антирелигиозной акции. Далеко не каждая церковная книга вызывала столь единодушную незаинтересованность, а лишь такая, в которой проповедовался фанатизм и аскетизм как норма жизни. «По числу страниц, – писал Чернышевский, – большая часть Четь-Минеи состоит из истории подвигов и страданий святых мучеников. Тут было много чудес, – мученика ввергали в реку, в огненную печь, свергали со скалы» (I, 788) – такие книги пусть читает дальний родственник Голубевых Матвей Иванович Архаров, который после пьяной беспутной жизни вдруг вознамерился принять образ мученика, а на деле превратился в жестокого тирана и злодея в семье. В связи с этим уместно процитировать следующее место из автобиографии Чернышевского: «У нас была особая книжка, содержавшая в себе службу Варваре великомученице, и в виде вступления подробное житие её. Мне не хотелось читать его в этой книге. А само по себе оно было интересно для меня. В Четь-Минее я прочёл его с любопытством и с убеждением, что в особой книжке оно ещё любопытнее, потому что подробнее. А в особой книжке всё-таки не прочел его. Почему? Тогда не думал об этом, а теперь вижу, почему: книжка была в сафьянном переплете, с золотым обрезом, с золотым тисненьем на крышках переплёта, – не любил я её за это, она возбуждала этим впечатление, что претендует быть не простою книгою, как все другие, хочет, чтобы её читали, как читает Матвей Иванович. Нет, это не моё, – то есть нашего семейства, – чтение» (I, 634).[113]
Своё пристрастие к книгам и отношение ко многим из них Чернышевский рассматривает со стороны того восприятия «книжной пажити», которое десятилетиями формировалось в семье под влиянием реальных жизненных условий. Однако на первых порах чтение, по его словам, было «многовато послабее» впечатлений жизни и, занимая в системе воспитания заметную роль, всё же имело второстепенное, подчинённое значение. Живая действительность, «трепетание жизни», ощущавшееся в разговорах, какие мальчику приходилось слышать, по-своему воспитывали и вовсе не вопреки намерениям старших или независимо от них, а в сложном совокупном, естественном взаимодействии. Вот почему разговор о «семейном воспитании», как оно представлялось самому Чернышевскому, будет не полон без учёта факторов мощного воздействия, идущего со стороны окружающей саратовской действительности.
4. Саратовская действительность
От пересказа бабушкиных историй и объяснений особенностей их «фантастического» содержания Чернышевский переходит в автобиографии к воспоминаниям о «соприкосновениях» его детства с «живыми людьми фантастического мира» (I, 586).
Вот перед читателем развёрнуты страницы жизни слабоумного мальчика, которому суеверные горожане одно время приписывали способность предрекать пожары.[114] Улёгся пожарный страх – заглохло и мистическое значение мальчика, и «все саратовцы стали видеть в нём опять только то же самое, что видели прежде: бедного слабоумного крестьянского мальчика, который из своего села (какого-то недалёкого) заходит иногда в город, потому что родные не усмотрят за ним по своему рабочему недосугу, или и вовсе не смотрят за ним, оставляют брести куда хочет, в надежде, что никто не захочет обидеть его, бедняжку, такого смирного, а может быть, и сами, по бедности, рады, когда он уходит с их скудного хлеба на хлеб добрых людей, из которого ещё, может быть, и принесёт им иной раз две-три краюхи „калача” (т. е., по-нашему, хорошего белого хлеба, какого бы то ни было)» (I, 584).
В другом эпизоде повествуется о бедной девушке, круглый год ходившей в холщовой рубашке и босиком, хотя бы и в тридцатиградусный мороз. Она посещала только церкви и, как гласила легенда, дала обет молчания и самопожертвования в память рано умершей сестры. Житейская сторона этой легенды, как и в предыдущем рассказе о слабоумном мальчике, оборачивается горькой, трагической обыденностью. Обе сестры остались сиротами в справной крестьянской семье. Одна из них по уговору с другой вышла замуж за человека, который оказался негодяем, и умерла от побоев. Её сестра с той поры наложила на себя страшное наказание и, разумеется, через несколько лет тоже погибла. Её подвижничество, писал Чернышевский, он «уже и тогда понимал как чисто человеческий подвиг, не фантастическое стремление, а страдание о действительном несчастии нашей простой человеческой жизни» (I, 586).

