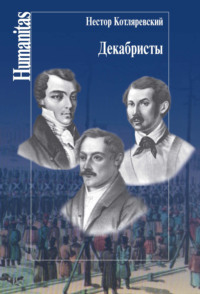
Декабристы
«Делал» он очень мало, чтобы не сказать ничего. Из достоверно установленных фактов видно, что он принял в члены общества корнета лейб-гвардии конного полка Рынкевича (в июле 1825), что 14 декабря утром после присяги он приехал к Сутгофу и упрекал его в том, что он изменил своему слову и не идет на площадь;[29] что с поручиком Ливеном заводил несколько раз либеральный разговор в неясных и неопределенных словах; что он принял Плещеева, которому говорил, что цель общества была просить Его Императорское Величество дать конституцию, не объясняя ему (Плещееву), каким образом; наконец, Рылеев полагал, что Одоевский принял в общество Грибоедова.[30] Одоевскому ставили в вину также, что он высказывал радость по поводу того, что наступило время действовать,[31] обвиняли его также в том, что на одном из собраний у Рылеева он восторженно говорил: «Мы умрем! ах! как славно мы умрем!».[32]
По этим отрывочным данным нельзя, конечно, составить себе никакого представления о политических взглядах Одоевского. Да и были ли они у него? Если верить ему, то к политической мысли он был совсем не подготовлен; он мог быть политически настроен, и в такое настроение, по всем вероятиям, и выливалось все его политиканство. Из показаний на суде видно, например, что он даже плохо знал устав общества, потому что думал, что существует конституция, написанная Рылеевым и Оболенским. Сам он ни устно, ни письменно по политическим вопросам не высказывался. Известно только, что он вместе с Бестужевым и Рылеевым останавливал Якубовича от цареубийства; Рынкевич, кроме того, показывал, что Одоевский в разговорах был умерен и говорил, что Россия не в таком положении, чтобы иметь конституцию. В своих собственных показаниях Одоевский неоднократно говорил, что все это дело считал шалостью и ребячеством. «Оно в самом деле иначе не могло казаться, ибо 30 или 40 человек, по большей части ребят и пять или шесть мечтателей не могут произвести перемены; это очевидно».[33] Так мог Одоевский думать в тюрьме, но перед катастрофой думал, вероятно, несколько иначе. Признать себя перед судом открыто членом общества он не хотел; утверждал, вопреки очевидности, что никого не принимал в члены, так как самого себя никогда не почитал таковым; говорил, что решительно не может назвать себя членом, так как не действовал и считал существование самого общества испарением разгоряченного мозга Рылеева; отрицал, что он принят в общество, а признавал только, что он увлечен, так как на слова Бестужева: «Ты наш?» он не отвечал ни да, ни нет, потому что почитал общество ребячеством и одним мечтанием; наконец, говорил, что хвастался из движения самолюбия (не христианского и не рассудительного), желая показать, что имеет некоторый вес в этом обществе – одним словом, Одоевский путался в показаниях, желая задним числом оттенить ту мысль, которая ему пришла в голову в тюрьме и на которой он надеялся построить свою защиту.
Хотел он также убедить судей в том, что и главная цель общества была ему неизвестна. Это ему, однако, не удалось, так как товарищи единогласно показали, что о конституции он говорил неоднократно. Так, например, вместе с Рынкевичем он желал представительного правления,[34] но не надеялся дожить до него; графа Ливена наводил он на мысли о том же словами: «Поговаривают о конституции»; Плещееву 2-му он сообщил, что общество хочет просить царя о конституции; князю Голицыну он говорил, что есть общество, желающее распространить либеральные мысли, дабы искоренить деспотизм и переменить правительство, и говорил он это, по словам Голицына, «свойственным ему языком неосновательности рассуждений». Наконец, Никита Муравьев утверждал, что перед отъездом своим из Петербурга, осенью 1825 г., он дал Одоевскому копию со своей конституции.[35]
Против таких улик бороться было трудно и Одоевский в конце концов согласился, что он был принят в общество, стремящееся к достижению конституции, но что все-таки это общество почитал шалостью и ребячеством.
Из всего этого ясно, что конечная цель пропаганды была известна Одоевскому, но в какой форме он рисовал себе конституцию – это неизвестно, и легко может быть, что он прошел совсем мимо этого вопроса.
III
В конце 1825 года Одоевский взял отпуск и уехал во Владимирскую губернию, в деревню к отцу, с которым давно не видался. Между членами общества было условлено, что в случае какого-нибудь важного происшествия каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург. Узнав в Москве о смерти Императора Александра Павловича, Одоевский 8 декабря 1825 г. вернулся в столицу.[36] Для членов тайного общества наступили суетливые и тревожные дни.
11-го декабря Одоевский говорил Рынкевичу: «Я чувствую что-то, что скоро умру, что-то страшное такое меня, кажется, ожидает».
На заседании 13 декабря у Рылеева Одоевского не было, так как утром того числа он вступил в караул в Зимнем дворце, откуда мог смениться только утром 14 декабря. Но 12-го числа вечером, после собрания у Рылеева, он еще побывал у князя Оболенского, куда собрались офицеры разных полков за последними инструкциями касательно будущих действий.[37]
14 декабря утром Одоевский стоял еще во внутреннем карауле. Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался к придворным служителям с расспросами обо всем происходившем – обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству.[38]
Присягнув новому Императору, Одоевский пошел к Рылееву, который «сказал ему дожидаться на площади доколе придут войска». «Я пришел на площадь, – показывает Одоевский, – не найдя на ней никого, пошел домой и у ворот встретил Рынкевича, у коего взял сани, поехал через Исаакиевский мост в Финляндский полк, дабы узнать, приняли ли присягу. Здесь встретил я квартирмейстерского офицера, которого видал у Рылеева и который известил меня, что Гренадерский полк не подымается и звал меня ехать к оному. Прибыв туда, нашел некоторых офицеров на галерее, от коих узнал, что полк присягнул, но что Кожевников арестован, о чем мы соболезновали. Приехав назад на Исаакиевскую площадь, нашел уже толпу Московского полка и некоторых из моих друзей, к коим я пристал. С ними кричал я: Ура! Константин!».[39]
Как только Одоевский прибыл на площадь, ему сейчас дали в команду взвод для пикета, во главе которого он и стал с пистолетом в руках.[40] Поставил его на этот пост кн. Оболенский, но Одоевский недолго оставался во главе пикета и возвратился в каре. Ни одного командного слова он не произносил.
На площадь Одоевский пришел в большом возбуждении и все время находился, как он сам говорил, в полусознании. «Я простоял, – писал он царю, – 24 часа во внутреннем карауле, не смыкал глаз, утомился: кровь бросилась в голову, как со мной часто случается; услышал: “ура!” – крики толпы и в совершенном беспамятстве присоединился к ней».
«Я… весь ослабел, здоровья же я вообще слабого, потому что от лошадей грудь разбита и голова; кровь беспрестанно кидалась в голову; я весь был в изнеможении… Двадцать раз хотел уйти; то тот, то другой заговорят;[41] конногвардия окружила; тут я совсем потерялся, не знал куда деться; снял султан: у меня его взяли, надевали мою шубу.[42] Щепин вывел меня напоказ конной гвардии: “Ведь это ваш?” В другой раз я вышел и удержал московских солдат от залпа и спас, может быть, жизнь многих».
«На площади, – показывал В. Кюхельбекер,[43] – я с Одоевским снова увиделся. Находился он неотлучно при московцах; удалял чернь из боязни напрасного кровопролития (когда она приближалась к рядам), не только не поощрял, но унимал солдат, стрелявших без спросу; а при ожидаемом на нас нападении конницы, увещевал их метить не в людей, а лошадям в морды; караульному же офицеру, который грозился велеть выстрелить в нас обоих, подошедших слишком близко к сенатской гауптвахте, он отвечал: “Monsieur! on ne meurt qu’une fois”. Наконец, увидел я Одоевского, теснимого толпою мимо его бегущих солдат гвардейского экипажа, и заметил, как он снимал султан со своей шляпы».
Суматоха на площади, как видим, царила большая, и среди этой суматохи роль Одоевского была ничтожна. Собственно, никакой вины за ним, кроме самого присутствия на площади, и не числилось. Были даже заслуги. «В самом деле, – писал он царю, – в чем моя вина? Ни одной капли крови, никакого злого замысла нет на душе у меня. Я кричал, как и прочие; кричал “ура!”, но состояние беспамятства может послужить мне оправданием. Если бы у меня малейший был бы замысел, то я не присоединился бы один, а остался бы в своем полку».[44]
На площади у Одоевского, действительно, начинался тот длинный пароксизм беспамятства, который разрешился острым душевным кризисом в тюрьме.
«В колонне остался я, – пишет Одоевский, – доколе оная была расстроена и разогнана картечью. Тогда пошел я Галерной и чрез переулок на Неву, перешел через лед на Васильевский остров к Чебышеву.[45] Оттуда возвратился в город и заехал к Жандру,[46] живущему на Мойке. Здесь дал мне сей последний фрак, всю одежду и 700 руб. денег. Я пошел в Екатерингоф, где купил тулуп и шапку, и прошел к Красному Селу. Наконец, вчерась возвратился в Петербург, где прибыл к дяде Д. С. Ланскому, который отвел меня к Шульгину (полицеймейстеру)».
О том, как Одоевский вернулся в дом своего дяди Ланского, существует несколько рассказов, с истиной едва ли вполне согласных.
Рассказывали, что он пешком пошел по Парголовскому шоссе; но у дачи дяди его Мордвинова (?) люди узнали его, а Мордвинов вернул его в Петербург и представил куда следует.[47]
Один современник утверждал, что гусары, казаки и драгуны делали ночью обход, чтобы ловить преступников, и Одоевский, спасаясь от них, провел ночь под дугой какого-то моста, но затем, окоченев от холода, спасся к Ланскому.[48]
Другой современник рассказывает, что 14 декабря вечером Одоевский исчез. На следующий день около взморья один унтер-офицер наткнулся на прорубь, которая начала уже замерзать, и увидал, что около проруби лежат шпага, пистолет, военная шинель и фуражка Конногвардейского полка. Шинель вырубили изо льда и начали поиски тела. Вещи были доставлены на квартиру Одоевского, которого искали. Прислуга признала их, и решили, что Одоевский утонул; а он через несколько дней, в простом полушубке, как мужик, пришел к Ланскому. Ланской обещал будто бы его спрятать, отвел его в дальнюю комнату, запер в ней, а сам поскакал с докладом во дворец.[49] Рассказывали, наконец, что Ланской не дал Одоевскому ни отдохнуть, ни перекусить, а прямо повез его во дворец.[50]
17 декабря в 2 ч. дня Одоевский и Пущин были доставлены в Петропавловскую крепость с запиской от императора, в которой он писал: «Присылаемых при сем Пущина и Одоевского посадить в Алексеевский равелин».
IV
В равелине Одоевский сидел рядом с Н. Бестужевым. «Одоевский, – рассказывает М. А. Бестужев, – был молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у стражей волосы подымались дыбом; что ему ни говорили, как ни стращали – все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиной, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить нашего намерения».[51]
Такое поведение Одоевского в тюрьме неоднократно обращало на себя внимание его биографов, и все приписывали эти странности его пылкому темпераменту. Теперь, когда показания его перед нами, поведение его объясняется иначе: он был психически болен, расстроен до потери сознания. На него напал панический страх, и ужас его положения притупил в нем все другие чувства, лишая его иногда даже связной речи. И понятно, что такое расстройство могло овладеть его духом. Слишком был он не подготовлен к испытанию, слишком не увлечен своим делом, чтобы не пасть духом. Слишком был он молод, богат, красив, умен, талантлив, полон надежд, чтобы не ужаснуться грядущему. А это грядущее рисовалось ему как нечто невообразимо страшное и беспросветное. Он словно угадывал свою судьбу и отбивался от ее призрака.
И много лишних заклинаний произнес он, отбиваясь от него.
Первый допрос в присутствии самого царя оставил слабый след в его расстроенной памяти. «При первом допросе, – пишет он, – пройдя через ряд комнат дворца, совершенно обруганный, я был весьма естественно в совершенном замешательстве, какого еще отродясь не испытывал». Одоевский просил поэтому не засчитывать ему в обвинение те показания, которые на первом допросе записаны рукой генерала Левашова.
Ему вскоре была предоставлена возможность самому письменно отвечать на вопросы.
Сначала он отвечает витиевато и красноречиво, не теряя самообладания.
«Смею испросить, – пишет он, – у Высочайше учрежденного комитета несколько минут терпеливого внимания, хотя бы оный и нашел в моих ответах подробное повторение показаний, уже мною учиненных на духу.[52] Я был совершенно чист в продолжение 23 лет: я говорю это без самолюбия, ибо едва ли какое-либо самолюбивое побуждение мне дозволяется в теперешнем моем состоянии. Я потому говорю о моем прежнем поведении, что в таком деле, где одна минута безумия всю участь мою решила, все приемлется в уважение – и мои чувства, и образ моих мыслей, и прежнее мое поведение. Я строго исполнял свои обязанности и был совершенно непорочен до 14 декабря. Это самое покорнейше прошу поставить на вид Государю Императору, ибо как его правосудию, так равно и его человеколюбию необходимо все знать и взвесить на весах своих и жизнь, и честь мою. Кто знает? Неисповедима воля Господня и, может быть, неисчерпаемы и кротость, и милосердие Государя. Еще я не погиб, но ежели мне суждено погибнуть, да исполнится воля Царя. Если же единым своим животворящим словом воскресит он меня, то я уверен в себе, что моею беспредельной благодарностью и искренним раскаянием, и целою жизнью изглажу я свою вину. Раскаяние – все перед Богом. Я уверен, что оно – много перед Государем. Да простят мне мое отступление. В последние минуты моей жизни (!) утешительно и необходимо было мне изложить мои чувства перед людьми почтенными, которых мнением истинно должен дорожить и которых, быть может, одних остается мне видеть на земле».[53] Как видим, тон речи Одоевского, хоть и очень смиренный, но в общем спокойный. «Последние минуты жизни» представляются ему пока еще не столько реальностью, сколько хорошим поэтическим оборотом. Одоевский, кроме того, озабочен, как бы его первые показания, записанные не его рукой, ему не повредили. Он принимает меры предосторожности и заявляет прямо, в письме к царю от 21 декабря, что тогда, когда он давал эти показания, он «по трехдневном голоде и бессоннице был в совершенном расстройстве и душевных, и телесных сил». «Несвойственно было бы твоему правосудию, Государь, – пишет он, – принять за доказательства против меня слова человека, ума лишенного. Так, к сожалению, должен я признаться, что с самого времени смутных обстоятельств, я чувствую беспорядок в моих мыслях: иначе не умею истолковать всех моих действий. Я скрылся, не знаю зачем, ходил Бог знает где и, наконец, сам, по собственному побуждению, возвратился в город и явился к Тебе, Государь. Теперь начинаю я опамятоваться и не могу доверить себе: я ли это? Я был в горячке. Внутреннего сознания в благородстве моих чувств я не утратил и никогда не утрачу; но внешнее посрамление, которым ты уже наказал меня, Государь, сильно врезалось мне в сердце. Я хотел скрыться под землю, под лед,[54] чтобы избавиться от стыда и поношения и, не доезжая крепости, бросился с моста (??).[55] Люди из любопытства всматривались в меня, как враны заглядывают в глаза умирающего, будущей их добычи (!?)… При вступлении Твоем на престол само Провидение даровало Тебе способ оказать себя благостным перед всем миром и одним всемогущим словом привязать к себе сердца тысячи тысяч людей, и таковой первый опыт Твоей благости увенчает тебя вечным сиянием. Прости заблужденных, а меня единого казни, если найдешь сие необходимым, но не лишай меня доброго имени. Я готов Твои колена не слезами, а кровью своею облить: внемли моему молению. Я и теперь еще чувствую расстройство в себе: оно было всему причиною…»
Уже в этом письме заметна тревога и некоторая растерянность мысли. Через месяц Одоевский пишет второе письмо царю: страх за свою участь начинает в нем проступать совсем ясно, разброд мыслей увеличивается и тон становится неприятен.
«Чем более думаешь об этих злодеяниях, – пишет Одоевский, – тем более желаешь, чтобы корень зла был совершенно исторгнут из России. Но Вы, Всемилостивейший Государь, при начале Вашего царствования сие и совершите. Желание же каждого подданного, который имеет совесть, споспешествовать по возможности сему священному делу: это долг его ради утверждения государства и для спасения честных людей, ибо когда корень зла пустил ветви, то нетрудно запутаться в них и самому честному». Одоевский доносит затем царю, «Ему Единому», о существовании второго, Южного общества, в сравнении с которым Северное общество – шалость. Он называет царю Пестеля как главу общества и полагает, что «ангельская кротость царя будет спасительна для них, а мудрость и твердость положат преграды их намерениям и разлитию яда». Наговорив много льстивых слов по адресу августейшей семьи, Одоевский продолжает: «Как начнешь размышлять, – говорит он, – где Государи кротче? Как не быть приверженным всею душою и благодарным всею душою Всеавгустейшей фамилии? Все благословляют Вас и все довольны, а если есть неудовольствия, то рассеиваются они обществами. Чего они хотят? Железной розги. Но эти проклятые игрушки нашего века будут, слава Богу, наконец, растоптаны Вашими стопами. Если я сам, хотя слепое, безумное орудие и безвредное, а не участник их, должен погибнуть, то все, все радуюсь всем сердцем для других; и для того я и осмелился донести Вам, Государь, о том обществе. Зародыш зла всего опаснее, от него молодые благородные душою люди, которые могли бы быть самыми усерднейшими слугами своего Государя и украшением своих семейств и жить всегда и в счастии, и в чести – лишаются всего, что есть священного и любезного на свете, и яд этих обществ тем опаснее, что разливается нечувствительно…»
«Также приятно мне и в моем несчастии, всемилостивший государь, подумать, что, не причинив в продолжение моей жизни никому вреда, кроме себя, я мог услужить, принести хотя малую пользу моему кроткому и милосердному императору и нашему порфироносному ангелу, будущему Александру Второму. О, если бы мое спасение было первым его благодеянием! Его черты столь кротки, что если бы он узнал о моей мольбе к нему, он умилостивил бы Вас; и с какою любовью, с какою приверженностью благословлял бы я Его во всю жизнь, называя моим ангелом-избавителем. Вы всего меня знаете. Я все сказал…» И Одоевский вновь излагает всю историю своего завлечения и кончает письмо такими новыми подробностями из последнего дня своей жизни на свободе: «Потом хотел броситься Вам в ноги. Пришел я к Жандру: старуха одна, которая меня очень любит, его родственница, завыла “спасайтесь!” Кинула мне деньги. Я пуще потерял голову. Пошел куда глаза глядят. На канаве, переходя ее, попал в прорубь; два раза едва не утонул (!), стал замерзать (!!), смерть уже чувствовал, наконец, высвободился, но совсем ума лишенный; через сутки опамятовался; явился к Вам. О Государь! Какие мучения! Те, которые готовит Ваше милосердное правосудие, едва ли жесточе! Но если бы Вы спасли меня! О Государь Всемилостивейший! Боже!»
Письмо, как видим, становится настоящим воплем отчаяния, и страх диктует все эти речи, столь мало соответствующие общему складу души несчастного юноши.
Спустя две недели после этого письма к Государю Одоевский пишет совершенно полоумное послание Г. А. [гр. А. И. – Ред.] Татищеву. «Благодать Господа Бога сошла на меня, – говорит он, – дух бодр, ум свеж, душа спокойна, сердце так же, как и прежде, чисто и молодо, а все от совершенно чистого раскаяния и благодати Божией… Допустите меня сегодня в комитет, Ваше Превосходительство! Дело закипит. Душа моя молода, доверчива: как не быть ей таковою? Она порывается к Вам. Я жду с нетерпением минуты явиться перед Вас. Я надумался; все в уме собрал. Вы найдете корень. Дело закипит. Я уже имел честь донести Вашему Высокопревосходительству, что я наведу на корень: это мне приятно. Но прежде я колебался от слабоумия, а теперь – с убеждением… Дозвольте придти мне поранее, ибо дела будет много. Я постараюсь всеми силами. Вы увидите. Жаль, что давно сего не исполнил, но Вы изволите знать, что я был слаб, был в уме расстроен. Теперь же в полном разуме и все придумал. Являюсь с радостью и убеждением в добром деле».
Через четыре дня он пишет тому же лицу: «Если когда будет свободная минута, то прикажите опять мне явиться. Я донесу систематически: 1) об известных мне выбывших членах; 2) о тех, коих подозреваю в большом их круге; 3) о принадлежащих ко 2 армии; 4) разберу по полкам; ни одного не утаю из мне известных, даже таких назову, которых ни Рылеев, ни Бестужев не могут знать…»
Одоевский, когда писал эти строки, забыл, что во всех своих показаниях он упорно утверждал, что к обществу не принадлежит и дел общества не знает. Впрочем, он все забыл и только дрожал от страха… Действительно, лишь паническим страхом можно объяснить в том же письме к Татищеву такие, например, строки, почти лишенные смысла: «Одно меня только очень мучает все эти дни: не погубил ли я священника? Он, право, не виноват в том, что я узнал о Кюхельбекере (т. е. что он пойман), я виноват: я стал первый говорить, что зачем Кюхельбекер убежал, что он всех невиннее, ибо он принадлежал обществу дней с восемь, что его же схватят, что в России не уйдешь, а священник кивнул головою. Я и заключил, что он (Кюхельбекер) здесь. Спасите священника. Эта мысль меня очень мучает, что я погубил его. Боже, Боже мой! Какой я несчастный! Спасите, сделайте милость, спасите его. Он, кажется, человек почтенный…»
Характерны в этом письме и последние строки, которые ясно показывают, что Одоевский совсем не сознавал того, что он говорил и делал. «Что касается до моего показания о членах, – пишет он, – то у меня, знаете ли, Ваше Высокопревосходительство, какое было еще опасение, кроме страха запутать и погубить новые лица? – опасение прослыть в тайнике души Вашей и всех гг. членов за доносчика. Вы бы, как судьи, воспользовались моими объявлениями, но могли бы подумать: “Как неблагороден этот молодой человек. Для своего спасения губит людей”. Но теперь мне кажется, что Вы проникли до глубины моей души, что нет иной побудительной причины моих показаний, как совершенно чистое раскаяние, как убеждение в добром деле… наконец, еще причина моих показаний: желание, самое пламенное желание отвратить незаслуженное подозрение Правительства от невинных лиц и от всей России, ибо я подозреваю, что главные лица оставляют Вас в неизвестности, дабы подозрение летало над невинными головами, а ничего нет ужаснее для сердца, как подозрение кроткого правительства. Вот мои чувства… Русский человек – все русский человек: мужик ли, дворянин ли, несмотря на разность воспитания, все то же. Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком (особенно при почтенных родителях), пока вера во Христа и верность Государю его одушевляют, то он храбр, как шпага, тверд, как кремень; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает, но если он сбился с законной колеи, то у него душа как тряпка. Я это испытал. Я с природы не робок. Военного времени не было, то лишнего нечего говорить; но мне и другим казалось, что я в душе солдат; был всегда отважным мальчиком: грудь, голова, ноги, – все избито (?). Но теперь, Боже мой! Я не узнаю себя или, лучше сказать, узнаю, ибо в теперешнем моем состоянии точно так должно чувствовать, как я чувствую. У меня, глядя на почтенных людей, душа замирает. Мне все кажется не Государь ли Император из-за Вас на меня смотрит? Ибо он Вам поручил свою волю. Все боюсь я, нет ли на лицах Ваших презрения ко мне?[56] Но теперь я покойнее. Вы в самом деле проникли до глубины души моей. Слава, слава Господу Богу, Иисусу Христу, моему Спасителю, ибо Он спасает меня в Ваших сердцах».
Неизвестно, как судьи отнеслись к этому бреду, но тот факт, что после всех этих писем и, очевидно, после тайных допросов, они вновь стали присылать Одоевскому дополнительные вопросные пункты, и притом самые конкретные, показывает нам, что насчет психического состояния подсудимого они не заблуждались. И мы теперь, читая эти показания, не должны из них делать вывода, слишком невыгодного для Одоевского. Он был нервно или, вернее, душевно болен; он был измучен до последней крайности, сбит совершенно с толку; он отличался кроме того доверчивостью и думал о людях лучше, чем они того заслуживали; наконец, он сознавал себя несчастным в полном смысле слова, так как дело, за которое он погибал, было не его делом, и он до известной степени правильно говорил, что был увлечен в это общество, а не принят в него. Он почти ничего не знал, а отвечать приходилось, словно бы все творилось с его ведома.