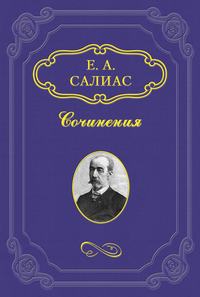
Аракчеевский сынок
– Но к какому чувству? – спрашивал себя Шумский.
Дни шли за днями. Ева встречала живописца несколько любезнее, чем прежде, подавала руку, чего прежде не делала, улыбалась, как доброму приятелю…
Затем, глаза ее стали иногда дольше останавливаться на сидящем пред ней за мольбертом молодом человеке. В глазах появлялось что-то большее, чем благосклонность, ясно светилось чувство приязни…
И Шумскому оставалось теперь изучить характер баронессы, знать всю ее жизнь наизусть, не только все ее привычки, склонности или причуды, но даже, по возможности, все ее тайные помыслы. Тогда уже легко будет бороться с ее гордостью и с ее ледяным хладнокровием.
– Но как этого достигнуть? – думал Шумский и, конечно, ничего придумать не мог.
Самый пустой случай помог ему. Однажды баронесса во время сеанса была озабочена и не в духе. На вопрос Шумского, она объяснила, что у нее настоящее маленькое горе. Ее любимая горничная, жившая у нее уже года три, выходит замуж и уезжает с мужем в Свеаборг.
Шумский даже вспыхнул от мгновенной мысли, которая при объяснении баронессы зародилась нежданно в его голове. Мысль эта, как скользнувший луч среди темноты, даже, как упавшая молния, осветила ему дальнейшее его поведение, дальнейшие козни относительно возлюбленной.
Он стал расспрашивать баронессу об ее любимице, выходящей замуж, предлагая найти ей совершенно такую же девушку взамен. Ева оживилась, насколько ее натура и раз принятое чопорно-вежливое отношение к г. Андрееву, позволяли это. Из расспросов, искусно и тонко делаемых, Шумский узнал, что в однообразной и скучной обстановке Евы горничная при ней поневоле играла видную роль, была почти наперсницей, которой она поверяла многое задушевное…
Шумский выслушал все и объявил, что баронесса другой такой же горничной в Петербурге не найдет, а равно и он сам не берется найти.
– Это невозможно, – объявил он. – Подходящая девушка, полуобразованная, не захочет быть горничной или хоть даже только именоваться таковой. А горничные, существующие в Петербурге из крепостных или из вольных, совсем не годятся, чуть не простые деревенские бабы.
А, между тем, в тот же вечер полетел гонец в Грузино с письмом молодого человека к матери, в котором он просил немедленно выслать к нему девушку Прасковью.
X
Девчонка, когда-то едва не утонувшая и вытащенная из воды нянькой Шумского, была теперь девушкой уже взрослой, но на вид ей можно было дать не более 20-ти лет, настолько была она моложава, жива и красива. Среди дворни грузинской, Прасковья, или, как все звали ее, Пашута, была совершенно «отметным соболем». Авдотья, спасшая ее, привязалась к ней, считала приемышем, так как у девушки не было налицо ни отца, ни матери. Они были живы, но находились Бог весть где. Отец был сдан за вину в солдаты и бежал, а жена его или разыскала его и жила с ним, или просто пропадала, в свою очередь…
Оба числились в бегах… Спустя пять-шесть лет, появился в Грузине мальчик, завезенный проезжими и оставленный на селе как бы подкинутым, с запиской на имя нянюшки Авдотьи, в которой говорилось, что ее просят призреть младенца Василия, брата Пашуты.
Факт говорил ясно, что беглые муж и жена живы и здоровы. Аракчеев строжайше приказал разыскивать их, но пойманы они не были, а ребенок был оставлен на селе.
Когда мальчику минуло пять лет, его сестре было уже 16 и девушка выхлопотала, чтобы брата взяли в дом, в число дворни.
Положение самой Пашуты в грузинском доме было исключительное. Няня Авдотья, пользовавшаяся таинственным и непонятным значением у господ, защищала Пашуту от всех, так же, как защищала своего питомца от гнева графа и Настасьи Федоровны.
Пашута была как бы на правах приемной дочери Авдотьи и поэтому первым товарищем игр молодого барчонка Миши. Девочка, будучи гораздо старше барчонка, часто, когда ей было уже лет 12 или 14, заменяла няню и приглядывала за шалуном. Разумеется, этой подняньке доставалось не мало от капризного и избалованного барчука.
Когда Мише минуло 16 лет, а Пашуте было уже за двадцать, юноша переменился в своем обращении с бывшей своей поднянькой… Он заметил и понял, что эта Пашута очень красивая девушка… Барчонок начал нежно и ласково относиться к Пашуте, родные заметили это и двусмысленно улыбались. Они не находили ничего против того, чтобы Пашута стала первой прихотью Миши, его первой победой и первой живой игрушкой.
Но сердечная вспышка, нечто в роде первой любви, поскольку мог быть на нее способен прихотливый и черствый сердцем барчонок, продолжалась недолго.
Шумский встретил в девушке самый страстный, ожесточенный и крутой отпор в своих намерениях.
Пашута давно, с первых дней своей тяжелой роли подняньки, возненавидела этого барчонка. Страстно, со слезами и отчаянием явилась она просить Авдотью спасти ее от ухаживания молодого барина. Авдотья, казалось, только того и ждала, обрадовалась просьбе своего приемыша и повернула дело очень хитро… Молоденькая девушка из грузинской дворни была взята ходить за бельем и платьем Миши…
Авдотья повела все дело так хитро, что Миша, его родные и все в доме были убеждены, что нежданная перемена совершилась сама собой. Молодой барин вдруг изменил Пашуте и быстро увлекся другой, которая была гораздо менее привлекательна, чем Пашута, но более уступчива.
Прошло несколько лет. Шумский, приезжая в Грузино из Петербурга, не обращал никакого внимания на Пашуту, вследствие того, что девушка всячески избегала молодого барина и когда случайно сталкивалась с ним, то вела себя отчасти сдержанно, а в иные минуты и прямо неприязненно. Она даже довольно ловко сумела заставить молодого барина себя не взлюбить, так как ухитрялась подчас ловко уколоть его самолюбие, чем-либо рассердить и раздражить против себя.
Когда уже двадцатилетний Шумский наиболее занимался собой, франтил и обращал тщательное внимание на свою внешность, Пашута постоянно, будто нечаянно проговаривалась, что барин удивительно умный и ловкий молодец… «Но уж дурен-то – как смертный грех!»
Это было, конечно, неправдой, Пашута умышленно лгала, но клялась, что это ее искреннее личное мнение.
– Да ты дура! – говорил Шумский, – я в пажеском корпусе считался самым красивым из всех. Уж скорее за глупого мне прослыть, а уж никак не за дурнорожего.
Но Пашута стояла на своем, просила извинения за искренность и божилась, что скорее можно в черта влюбиться, чем в молодого барина.
И Шумский перестал даже и разговаривать «с дурой Пашуткой», когда видал ее во время своих приездов из столицы и пребывания в Грузине.
Вместе с тем, Шумский отлично видел и знал, что Пашута красивая, умная и бойкая девушка, «бой-девка на все руки», способная на всякое серьезное дело. И вот теперь в Петербурге, обдумывая свой план действий относительно баронессы, Шумский вдруг вспомнил о Пашуте. Ее надо приставить к Еве.
Чем более думал он об этом, тем более убеждался, что Пашута будет драгоценным приобретением и его самым полезным и деятельным союзником.
И Пашута была тотчас отпущена Настасьей Федоровной в столицу по оброку, с приказанием явиться прежде к барину Михаилу Андреевичу, который «может быть» ей и место найдет подходящее.
Совещания Шумского с Пашутой продолжались целых три дня. Пашута явилась в столицу ни жива, ни мертва, снова от той же боязни попасть насильственно в наложницы к прихотнику, молодому барину. Когда она узнала, что Шумский вызвал ее для помощи в мудреном деле – она ожила, вздохнула свободнее и обещала все!.. Обещала себя не жалеть, а услужить барину.
В награду Пашута должна была по ходатайству Шумского сделаться вольной и, стало быть, при своем красивом лице и шустрости могла выйти замуж в столице, по крайней мере, за купца или богатого мещанина.
Таким образом, Пашута очутилась при баронессе, знавшей, что девушка крепостная холопка графа Аракчеева и из грузинской дворни. Но это не могло возбудить подозрений Евы. Что же общего между Аракчеевым и г. Андреевым. Даже брат Пашуты Васька-Копчик, изредка бывая в гостях у сестры, не скрывал в доме барона, что он в услужении у флигель-адъютанта Шумского.
Сначала брат и сестра ловко и усердно служили барину Михаилу Андреевичу в его замыслах по отношению к молодой баронессе.
Понемногу, незаметно, по особым причинам все изменилось. Но Шумский не подозревал, что союзники его, оба крепостные его отца, мальчишка 18-ти лет и девушка 29-ти относятся к нему неприязненно, и если не противодействуют из страха его мести, то и не помогают. Он был обманут ими как малый ребенок, и только теперь наступило время, в которое Пашуте, а отчасти и Ваське, приходилось снять с себя личины и, конечно пострадать.
За последнее время Шумский стал догадываться, что Пашута не повинуется ему, что она привязалась всем сердцем к своей молодой барышне, потому что сама баронесса полюбила Пашуту серьезно. Все искусно подстроенное Шумским не приводило ни к чему.
Однажды он вызвал к себе строптивую девушку, послав за ней Копчика, но беседа их кончилась тем, что Шумский едва не бросился на Пашуту с чубуком в руках.
Девушка от страха побоев обещала впредь повиноваться во всем, но затем, вызванная вновь через брата, не явилась вовсе. Через дня три Шумский получил от матери письмо, а с ним вместе и другое от барона к графу Аракчееву с просьбой продать ему крепостную девушку Прасковью.
Настасья Федоровна писала, что граф и отвечать барону не считает нужным.
Шумский был вне себя от удивления и гнева. И тут уже пришло ему на ум немедленно вызвать из Грузина себе на помощь няню Авдотью, имевшую большое влияние на свою как бы приемную дочь.
XI
Когда Шумский вернулся от Нейдшильда, не видав Евы и зная, что Пашута притворяется больной, он весь день волновался и повторял одну и ту же фразу: – А если девчонка меня выдаст, назовет баронессе. Что тогда делать? Тогда все пропало.
На заявленное Авдотьей желание повидать барина, чтобы узнать, «что ей делать прикажут», молодой человек только рассердился. Наутро Шумский, конечно, был сперва в доме барона и на вопрос его об Пашуте, Антип опять объяснил, ухмыляясь, что она больна.
– Чем больна-то? – спросил Шумский.
– Ейная хворость – пёсья!
– Что?! – удивился и невольно улыбнулся Шумский, хотя на сердце было далеко не весело.
– Пёсья болезнь такая есть. Сами знаете. Когда собаку какую господа в холе содержат да балуют, то она с жиру бесится. Вот и наша Пашутка от барышниных ласков чуметь начала и беситься.
– Да что же она делает? Лечится? Лежит?
– Ни! Зачем! Она на ногах… Она плачет все только.
– Плачет?!
– Да. С придурью! Ходит по дому с красным раздутым рылом… Бесится – одно слово!.. С чего ей надрываться?.. Ест до отвалу. Одета с барышнинова плеча, все платья новенькие ей идут в награжденье. Ездит с барышней по магазеям и по гостям, якобы гобернанка и воет кажинный день…
– Как воет?
– Ну, надрывается плачет. Сказываю вам, увидите, не узнаете ее. Все ейное рыло разнесло от плаканья, как если бы обморозилась. С жиру бесится! Не ныне, завтра скакать начнет, опустя хвост, и нас всех перекусает! – уже острил, глупо ухмыляясь, Антип.
– Нельзя ли мне ее повидать, если она на ногах, а не в постели.
– Нельзя! – решительно заявил Антип.
– Отчего? – удивился Шумский.
– Не пойдет. Ей вчера я сказывал, что вам было желательно ее повидать. А она мне в ответ брякнула: «Чего мне с этим камадеянтом говорить. Меж нас никаких таких делов нет».
– Комедиантом? – повторил Шумский себе самому, но невольно вслух произнес это слово.
– Камадеянт. Так и сказала. А ввечеру еще обозвала ряженым волком. Вас же все… Это стало быть выходит, что вы господин такой обходительный и ласковый хоть бы с нами, холопами, а на поверку вишь… Злобственный, что ли? Это когда волк овечью шкуру надевает, чтобы в стадо пролезть и задрать по суседушку овечку какую…
– Это все Пашута вам так разъяснила?
– Да. Все она… Мы хохотали до слез от этих ее глупостев, а она бесилась и грозилась. Увидите, говорит, что будет вскорости. Мало смеху будет.
И Шумский, еще более смущенный, вышел из дома барона.
Время терять было нельзя.
С каждым днем Пашута могла выдать его с головой и дверь дома Нейдшильда будет заперта для г. Андреева.
Шумский невольно дивился дерзости и смелости девушки, вступавшей с ним почти в открытую борьбу. Только одним предположеньем мог Шумский объяснить себе это поведение крепостной девки его отца. Она, очевидно, надеется в скором времени быть выкупленной бароном у Аракчеева. А между тем она должна знать от барышни, что ответа из Грузина на письмо барона нет и не предвидится.
«Ум за разум зайдет! – думал Шумский и прибавлял гневно. – Нет! Каково я попался! Хорошу я себе помощницу выискал. Дурак эдакий. Надо было подумать, надо было помнить, что она еще прежде была с норовом. Когда она мне, лет семь тому, приглянулась было, то как она себя со мной вела. Чистая барышня-дворянка. Королевна-Недотрога!»
Прежде всего Шумский позвал к себе Авдотью и встретил словами:
– Слушан, Дотюшка, в оба, мотай на ус, что я тебе буду говорить. Приходит мне плохо, хоть утопиться или застрелиться. И все от твоей поганой Пашутки! Ты меня выходила, говоришь, любишь, ну и помоги. Просто прямо скажу: спаси меня! Я за это тебя озолочу… Да тебе не то надо… Знаю. Ну, буду тебя обожать, боготворить. Оставлю тебя жить здесь со мной и быть у меня хозяйкой, домом командовать. Все, что хочешь. Что ни придумай, на все я буду согласен. Только помоги.
Шумский проговорил все это с таким жаром и неподдельным отчаяньем в голосе, что Авдотья оторопела, сердце в ней забилось сильнее и она слегка прослезилась.
– На десять смертей пойду я за тебя! – выговорила нянька резко, почти выкрикнула, с легкой хрипотой в горле от волнения и подступивших слез.
Шумский усадил няню, сел против нее и начал самое подробное изложение своей беды. Он рассказал знакомство свое с Нейдшильдами под чужим именем, свое сближение с баронессой и свою страсть… Затем, объяснив с какой целью он выписал Пашуту и определил к баронессе, он рассказал няне, как девушка, по неизвестным причинам, стала ему противодействовать.
Разумеется, сам Шумский понимал хорошо мотивы, руководившие Пашутой. Он догадывался, что девушка слишком привязалась к Еве, чтобы быть ее предательницей, да еще человеку, которого не любила с детства.
– Что же нужно-то тебе, соколик. В чем не слухается Пашутка? – спросила Авдотья.
– Ну, слушай… Это самое главное… Что я на сих днях потребую от поганой девчонки – тебе и знать не нужно. Было бы только тебе известно, что это есть мое желание, и что Пашутка должна сделать все, как я ей прикажу. Без всяких своих дурацких рассуждений – она должна слепо повиноваться.
– Вестимо должна… Крепостная она, а ты наш барин, графский сынок.
– Ну, вот что ты сделаешь, Дотюшка. Слушай.
И Шумский стал объяснять няне заискивающим и ласковым голосом, что так как девушка притворно сказывается больной, и он сам ее видеть не может, то Авдотья должна отправиться к ней в гости и с ней переговорить.
– Ты должна ей объяснить, что если она на сих днях не исполнит того, что я потребую, то я ее немедленно возьму от баронессы. Не пойдет охотой, я ее от имени графа вытребую через полицию, как крепостную. Затем, конечно, отправлю обратно в Грузино, а уж там она пойдет прямо на скотный двор, где ее маменька прикажет пороть розгами, сколько вздумается главному скотнику Еремею.
Няня вздохнула и потупилась…
– Что? Иль тебе ее жаль… А? – вскрикнул Шумский. – Ее жаль! А меня не жаль!
– Нет, родной мой… Не будет мне ее жаль, если она себя противничаньем твоей господской воле себя так поставит… Нет, не то… А боюся я… Боюся.
– Чего?
– Боюся. Я ее знаю. Пашуту страхом взять нельзя. Ведь я ее пяти годков приняла и около меня она как дочь выросла. С ней пужаньем ничего не поделаешь. Ее только добром взять можно. И добром всяк ее совсем возьмет. Вот ты сказываешь, это барышня самая с ней сердечна через меру. Ну, вот Пашута за нее горой и стоит теперь. И супротив тебя пошла. А страхом… Ни-и!.. Ничто на нее эдакое не действует. Хоть ножом ей грозися. Смертью грози! Только голову задерет и скажет: – Семь смертей не бывать, а одной не миновать! Ты знаешь ли, соколик, что когда я ее из воды-то вытащила, почему она в эту воду попала. Топилась! Да, родной, топилась! Пяти-то годков от роду. Ее высек ктой-то середь слободы, при всем народе… Уж и не помню кто… Она от него да прямо в воду. Пяти годов. Так что ж теперь-то от нее ждать.
– Как же быть-то, Дотюшка? – растерянно проговорил Шумский. – Чем же ее взять?
Няня задумалась, не отвечала, а лицо ее стало сумрачно и глаза заблестели ярче. Казалось, она думу думает настолько важную, что душевная тревога тотчас отразилась на лице. Шумский невольно удивился, поглядев пристальнее в лицо своей бывшей мамки.
– Я Пашуту возьму… Токмо ты оставь меня самою, по моему глупому разуму, орудовать. Как мне самой Бог на душу положит. А пужаньем… Где же?..
– Сделай милость! Как знаешь, как хочешь. Только помоги. Ты пойми, что мне смерть чистая приходит. Я извелся. Либо захвораю от боли сердечной и помру, либо просто пулю в башку себе пущу.
– Ох, что ты…
– Верно тебе, Дотюшка, сказываю…
– Полно. Полно… Все будет по-твоему. Есть у меня на Пашуту одно только слово. Страшное слово! Заветное слово! Думала я во веки его не сказывать. Ну, а вот… Будто и приходится. И если я скажу его Пашуте, то она твой слуга верный будет. Все противности бросит…
– Спасибо тебе, дорогая…
Шумский встал, обнял Авдотью, и поцеловал вскользь, почти на воздух, приложив к ее лицу не губы, а свою щеку. Няня покраснела от избытка счастья.
– Дай ты мне только с духом собраться и с мыслями совладать. Не знаю, говорить ли мне… Страшно! Поразмыслить надо мне. Говорить ли!
– Что ты, Бог с тобой, вестимо говорить.
– Ох, нет… Ты в этом не судья… Дай, говорю, с духом собраться. Пойду я вот в здешние святые места, в Укремль. А как я пожалюся святым угодникам и из Укремля приду… тогда я тебе и скажу: говорить ли мне Пашуте мое страшное слово…
– Ну, ладно! – смеясь, отозвался Шумский. – Ступай сейчас в свой вукремль и молися всласть. А там иди к Нейдшильдам. Тебя Копчик проводит. Только видишь ли, Дотюшка, одна беда, в Петербурге нету Кремля и нет никаких угодников. Здесь не полагается. Тут не Москва.
Няня вытаращила глаза.
– Ведь на этом месте, Дотюшка, где Питер стоит, тому сто лет одно болото было. А что в них водится?
– Не пойму я тебя, соколик.
– Да ведь сказывается пословица: было бы болото, а черти будут. Коли Питер эдак-то выстроился, так каких же ты святых угодников тут захотела…
Однако, Авдотья собралась и тотчас же по указанию Васьки отправилась в Невскую Лавру, но его с собой не взяла, говоря, что он ей помешает молиться.
Вернулась няня домой через четыре часа, и Шумский, увидя женщину, невольно изумился, на столько лицо ее было тревожно и выдавало внутреннее волнение. Глаза были заплаканы.
– Что с тобой, Авдотья? – воскликнул он.
– Ничего. Богу молилась.
– Так что ж такая стала… Будто тебя избили. Аль ты Богу-то в страшных грехах каких каялась…
Авдотья вспыхнула, все лицо ее пошло пятнами. а затем тотчас же стало бледнеть, и все сильнее… Наконец, мертво-бледная она зашаталась… Если бы молодой человек не поддержал женщину во-время за локоть и не посадил на стул, она бы по всей вероятности свалилась с ног.
«Верно попал! Сам того не желая, прямо в цель угодил»! – подумал Шумский и прибавил:
– Устала ты, видно. Далеко ходила. Приляг. Отдохни. Иль чаю напейся что ль…
И уйдя к себе в горницу, Шумский думал, ухмыляясь:
– «А видно у моей мамки есть на душе кой-что не простое… Как я ее шарахнул невзначай… И какое же это слово «страшное», как она называет, может она сказать Пашутке. Какая-нибудь тайна между ними двумя. Вернее такая тайна, которой Пашутка еще не знает и теперь, узнавши, изменит свое поведение. Увидим, увидим.»
К удивлению Шуйского, Авдотья через час отказалась наотрез идти к Нейдшильдам и умоляла своего питомца дать ей отсрочку.
– Ну, хоть денька три… Ради своего же счастья обожди, соколик.
– Да отчего? Помилуй!
– Не собралась я еще с духом. Ради Господа не неволь. Хуже будет. Страшное это дело.
Шумский махнул рукой и согласился поневоле…
XII
Между тем, юная баронесса, очевидно, избегала встречи с своим портретистом и не давала сеансов.
Три дня еще напрасно являлся Шумский к Нейдшильдам.
Барон был очень любезен с ним, сажал и задерживал болтовней. Он, по-видимому, был особенно в духе от предстоящего путешествия за границу, в Веймар, на поклон к великому старцу Вольфгангу Гете.
В первый день барон задержал Андреева подробным описанием дома Гете в Веймаре, его рабочего кабинета, крошечной спальни с одним окошком, где едва помещались кровать и одно кресло…
В другой раз барон два часа продержал Шумского, развивая один свой новый проект водоснабжения домов водой.
По проекту барона следовало устраивать не покатые, а плоские крыши с стенками, наподобие резервуаров, а посредине ставить громадную печь. Весь нанесенный зимой снег, долженствовало растапливать и чистая вода по трубочкам текла бы во все комнаты жильцов.
Мысль эту лелеял барон тогда, когда о водопроводах в городах Европы не было и помину. Проект его крыш и печей канул в Лету, а мысль была все-таки не праздная и, в ином более разумном виде, стала через полстолетия действительностью.
Шумский на этот раз слушал барона терпеливо, задумчиво, почти грустно. Он называл красноречивые разглагольствования финляндца – «шарманкой» и обыкновенно избегал их, прерывал.
– Не правда ли удобно? – восклицал барон. – Вместо того, чтобы возить воду в бочках, таскать в ведрах, а снег сгребать с крыш и сваливать во дворах…
– Да-с, – отозвался Шумский угрюмо. – Ну-с, а летом как же? Все-таки бочками возить воду, по-старому.
– Летом?! Да-а?.. – протянул барон. – Летом! C'est une idee![15] Я об этом не… Да, летом уж придется по-старому.
Наконец, на четвертый день Шумский застал барона собирающимся ехать во дворец в парадном платье с сияющим шитьем на мундире и с не менее сияющим лицом.
Барон при виде вошедшего г. Андреева едва заметно дернул плечом и отвернулся. Фигура его и жест как бы говорили…
«Ты все свое… Знай – ходишь!.. А тут вон что? Пропасть между нашим обоюдным общественным положением сегодня еще шире разверзлась. Ты приплелся за работой, а я вон что… Во дворец еду».
Шумский знал, что Нейдшильд бывает крайне редко на приемах во дворце, раза два в год. Иначе, ему самому в качестве флигель-адъютанта было бы невозможно появляться на высочайших выходах, рискуя встретиться лицом к лицу с бароном.
Глядя теперь на Нейдшильда полного чувством собственного величия, Шумский невольно улыбался…
– Ничего! Pardon[16]. Сегодня не до вас. До свидания. A demain, mon bon[17]… – сказал, наконец, барон.
Шумский вышел в столовую и уже собирался уходить, когда к нему навстречу появился из гостиной Антип и доложил:
– Баронесса просят пожаловать…
Сердце стукнуло в нем невольно от неожиданности. За ночь принятое решение пришло на ум.
А за эту последнюю ночь Шумский решился на объяснение с баронессой, на произнесенье рокового слова любви.
– Хватит ли храбрости? – спросил он сам себя, входя в гостиную.
А между тем, надо было пользоваться случаем, возможностью спокойно объясниться. Барон, уже уезжающий, не мог помешать нежданным приходом в гостиную. Люди во время его отсутствия всегда исчезали, дом пустел и в нем воцарялась мертвая тишина.
Ева встретилась с молодым человеком как всегда… безучастно любезно. Она вышла из своей комнаты, плавно и легко скользя по паркету, стройная, красивая, спокойная и медленно протянула ему свою маленькую, белую, как снег, руку с сеткой синих жилок и с ярко розовой ладонью… При этом она улыбнулась ласково, глянула лучистыми глазами прямо в глаза его…
Шумский решился в один миг на дерзость… нагнулся и поцеловал поданную ручку.
Когда он поднял голову и взглянул на девушку, чтобы увидеть впечатление им произведенное, то встретил то же выражение благосклонной ласковости, но несколько более холодное.
– Не делайте никогда этого, г. Андреев, – вымолвила Ева. – Это не следует.
– Простите… Невольно… Я сам не знаю, как случилось это, – прошептал Шумский с такой скромностью, с таким искренним стыдом раскаянья, что сам внутренне подивился своему искусству владеть голосом и лицом.
– До сих пор никто еще не целовал моей руки, с тех пор как я на свете! – вымолвила Ева, слегка оживясь. – И нахожу даже, что это странный обычай – касаться губами руки… Неумный и неприятный. Pardon… Я сейчас возвращусь.

