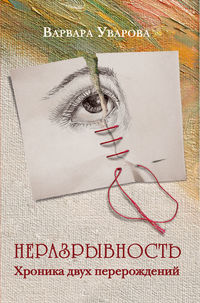
Неразрывность. Хроника двух перерождений
Через полгода после переезда, когда бытовые дела наладились, я заметил, что стал рано вставать, потому что больше не было необходимости выдирать себя из-под одеяла – мне захотелось просыпаться и проживать каждый день. Через год заметил, насколько не пресыщенный изобилием человек радуется любой материальной мелочи: поймал себя на том, что радуюсь новым брюкам сильнее, чем когда-то радовался новой машине. У меня пропало ощущение, что я теряю время, потому что больше я его не терял.
Я стал гулять по улицам, внимательно следя за прохожими, выискивая отражения мыслей и чувств на каждом лице. Я разговаривал с незнакомцами, искал странных приключений и встреч. Я был открыт миру и пытался заставить мир быть открытым ко мне. Но люди оберегали свои крошечные, заплесневелые мирки. Меня часто не понимали, ругали, боялись, пару раз я даже был бит. Но меня это не волновало. Мне было всё равно.
К сожалению, пока я боролся с миром за собственную свободу, я совсем забыл об одной очень существенной детали – одиночестве.
Когда я почувствовал, что рамки и ограничения, которые устраивают общество, мешают смотреть и видеть, думать и мыслить, делать и создавать, что они натирают душу в самых нежных местах, я решил этими рамками пренебречь. Выйти за них. Сломать, наконец. И стать самим собой.
И я оказался не готов к тому, что я такой, какой есть на самом деле, просто никому не нужен. Одних начал напрягать мой излишне пристальный взгляд. Решили, что я увижу что-то лишнее, если буду смотреть на них немного внимательней. Многие люди привыкли к мимолётному взгляду, которым обычно проверяют, смотрит на них собеседник или нет. Они воспринимали других как штативы с прожекторами глаз. Эти прожектора, пыша жаром, ежесекундно нависают над ними своей стеклянной тяжестью, а они, как артисты на сцене, ярко освещены вниманием других людей. Только сам артист ничем не отличается тех, кто освещает его своими взглядами.
Хм, интересная идея, могла бы получиться хорошая инсталляция.
Других стали не устраивать мои новые ориентиры. Некоторые бывшие друзья во время ночных посиделок на кухне с пеной у рта доказывали мне, что нужны деньги, нужна карьера, нужны женщины, а иначе я просто неудачник и у меня нет никакого будущего. Только проблема в том, что всех нас после смерти положат в ящик, а будут ли у этого ящика серебряные ручки, мне, в общем-то, неважно.
Третьим просто не понравилось, когда их друг стал вести себя как последняя сволочь, провокатор и эгоистичная мразь. И по отношению к ним я просто стараюсь быть максимально честным, предоставляя им возможность решать самим: оставаться или уходить. Все мои женщины, как кошки, приходили и уходили тогда, когда им захочется. Они не питали никаких надежд, и это всегда всех устраивало.
Но иногда, после дня прогулок и многочасовой работы над эскизами, я сижу в темноте, не включая свет, смотрю в окно и медленно смакую привычный чай. И, глядя на огни засыпающего города, я жалею о мёртвой тишине за спиной. Гляжу, как в соседних домах одно за другим гаснут окна, как маяки чужой, может, менее счастливой, но более тёплой и мирной жизни. Я жил такой жизнью когда-то и знаю, что это грусть обманывает меня в этот момент. Но мне так явно чудится, что там, в одной из угловых квартир соседнего дома, под низкой люстрой с одинокой неяркой лампочкой собрались люди, искренне любящие друг друга, они обсуждают важные темы, смеются, беспокоя ночную тишину за стеклом. И я приглядываюсь, приглядываюсь, желая увидеть их спокойное счастье… и вижу, как на кухне ссорятся двое. Она кричит на него, бьёт кулаком по плечу, заливается слезами и выбегает из комнаты. Он размашистым шагом подходит к двери и зло, со всей силы, захлопывает её за ней.
Совсем как я когда-то.
И тогда я перестаю жалеть об ушедшем.
* * *Сегодня я встретил прекрасное. Оно пришло ко мне так неожиданно, в облике самой обычной…
Стоп, лучше я расскажу с самого начала.
Вечером началась гроза. Обычно грозы заканчиваются быстро, изойдя потоками дождевой воды. Молнии слабы, порой беззвучны, как безобидные зарницы. Небо сохраняет свою освещённость, теряя краски. Но сегодняшняя… Сегодняшняя гроза была редкостью. Тучи клубились и разражались близким громом, как в последний день мира. Листья деревьев трепетали в предчувствии бури, свежея от влаги и сгущавшейся темноты. Молнии были так ярки, что болели глаза. И никакой вульгарной серости: небо было сизым с золотым подпалом.
Я должен был погрузиться в это полностью, чтобы от такой густоты холодных красок, какую встретишь только зимним вечером, меня не отделяло пыльное, искажающее своими неровностями стекло. Пускай я не хотел эту погоду запечатлеть, но я хотел вобрать её в себя, почувствовать, запомнить, пережить. Природа была прекрасна в своём гневе.
Конечно, я не пейзажист. Мне пейзажи и натюрморты всегда казались слишком скучными. Красивая посуда, цветы, еда, деревья, дома… Для меня это всегда было бессмысленно. Рисовать то, что уже создано чьими-то руками или не имеет яркой индивидуальности, всегда казалось мне потерей времени. Без сомнения, природа удивительна и прекрасна, но венец её творения – человек. Человеческое существо со своими мыслями, страстями, страхами, ошибками, волей и памятью настолько безумно сложно и непостижимо прекрасно, что я до ломоты в висках вглядываюсь в лица, фигуры, жесты, мимику и пластику, пытаясь почувствовать, увидеть, познать ту душу, что скрылась в этом теле.
Но сегодня я, отложив все дела и надев огромный нелепый дождевик, пошёл на улицу, подставляя лицо тугим струям дождя. Я вбирал глазами, пил мозгом цвет окружающего мира, наслаждаясь его сочностью и вкусом. Даже запах земли напоминал мне запах свежей масляной краски. Я шлёпал по лужам, игнорируя тот факт, что кроссовки давно промокли. Свитер под дождевиком тут же отсырел, но это тоже не имело значения. Я шёл по улицам старого, помнящего о многих событиях города, переваривал его, разбирая его в голове по цветам, и чувствовал себя совершенно свободным и счастливым. Только немного расстроило то, что демонстрацию своих сил стихия закончила достаточно быстро. И восхитительная, пугающая своей мощью буря перешла в заурядный дождь. Гром затихал вдали, глухо рокоча вслед удаляющимся вспышкам молний, и только пальцы дождя лениво с тихим шорохом перебирали влажную листву.
Город медленно затапливала безлюдная влажная темнота. Водяная пыль образовывала нимбы над оранжевыми фонарями, которые заставляли сверкать каждый камень мокрого асфальта. Дома блестели сырой штукатуркой, теряли с литых витиеватых карнизов крупные капли, которые звучали как ноты в басовом ключе этой симфонии дождя.
Я вышел на холм, к подножию кремля. Белая громада ощутимо потускнела от дождя и подступившей ночи. Я повернулся к ней спиной и посмотрел через реку, на другой берег, где раскинулись новые кварталы большого города. Стены зданий почти растворились в пресыщенном влагой воздухе, оставив в непонятной пустоте, где земля и небо неразличимы, загадочный свет своих окон. И вроде бы всё естественно и понятно, но стоит сделать крошечное волевое усилие – и ты веришь, что там ничего нет: ни домов, ни людей, ни улиц… И даже земли. Ты веришь, что перед тобой не река, а море, уставшее после бури. А свет – всего лишь волшебный мираж, что-то похожее на огни святого Эльма. И ты чувствуешь весь мир на триста лет моложе: в нём ещё есть место чуду и убедительно похожей на правду фантазии, неизведанным мирам и холодящей кровь опасности и… внезапной смерти по бессчётному количеству причин.
Я полюбовался, помечтал, покрылся мурашками и понял, что замёрз. Мне захотелось тепла. Не только температуры воздуха повыше – хотелось какого-то особого настроения. И я отправился искать ближайшую забегаловку. И по пути размышлял о том, что не отказался бы разделить такие волшебные моменты с кем-нибудь, кто смог бы меня понять.
Ноги привычно несли меня по городу, выбирая самые красивые улицы. Стены домов прятались в темноте, отодвигались, уставшие, загораживались от взглядов светом вывесок и окон. Я бренчал в кармане мелочью, прикидывая, хватит ли её на кружку горячего чая и возможность посидеть в тёплом зале.
Вдруг мне в глаза бросилась вывеска маленького кафе. По ней невозможно было определить ценовую категорию заведения: она могла принадлежать как ресторану с налётом аристократизма, так и дешёвой забегаловке с десятью бутербродами в меню.
Я остановился у дверей и запустил руку в карман. Количество мелочи, которое накопилось в дождевике, едва поместилось в ладонь. Несколько больших пятаков сиренево поблёскивали в свете окна, десяток было чуть больше, они лесенкой, монетка к монетке, сбились в кучу, вытеснив мелочь на периферию. Выбрав из кучи десятки, я прикинул, что на чашку чая в не очень дорогом кафе мне хватит, и, сделав шаг, толкнул дверь.
Зал оказался маленьким, с низкими потолками. Пол был покрыт дешёвым светлым ламинатом, который уже истёрся под ножками стульев и заметно поднялся от влаги. Стены были отделаны фактурной штукатуркой и покрашены бежевой краской. Столы и стулья были деревянными, но какими-то неаккуратными и неуютно угловатыми. Вдоль стен стояли диванчики, фальшиво поблёскивая дерматином. Над этим светлым царством довлела огромная барная стойка, поверхность которой должна была напоминать благородное чёрное дерево, но блестела как старые виниловые пластинки.
Я вздохнул, подумав, что цены здесь наверняка позволят не только выпить чаю, но и съесть что-нибудь, и решил остаться. Справа от входа между проходом к кухне и окном стоял уютный столик, занимающий правильное тактическое положение: человек, который садился за него спиной к кухне, получал возможность незаметно наблюдать за всем залом в отражении чёрного оконного стекла.
Я скинул дождевик, стряхнул с него воду и кинул на стул, который стоял спинкой к проходу. Сел за стол и уставился в окно. Провёл рукой по волосам и почувствовал, что они совсем мокрые. Да и свитер навязчиво холодил плечи. Ничего, надеюсь, не простужусь…
Посмотрев по сторонам, я убедился, что источников ощутимого сквозняка нет. Ко мне уже спешила невысокая женщина со светлыми волосами. Её шаг был широк, движения резки. Она двигалась как кукла, управляемая не слишком искусным кукловодом. Я давно заметил, что такой характер пластика принимает тогда, когда душевных сил у человека почти не осталось. Только железная воля заставляет его двигаться и, так как воля плохо умеет обращаться с человеческой сутью, лишает движения человека плавности и гармонии живого порыва.
Она протянула мне меню и улыбнулась. Глубокие тени в углах рта на мгновение рассеялись.
– Здравствуйте, может быть, хотите сразу заказать?
– Нет, спасибо.
– Хорошо. Я подойду позже.
Она отошла, и я, определившись со столь желанным чаем (кстати, цены у них неожиданно кусались), заглянул, как в зеркало, в тёмное, иссечённое каплями стекло.
Почти у выхода сидели молодые парень и девушка. Она ласково прижималась к нему, парня же явно интересовал только его смартфон. Она преданно заглядывала ему в глаза, отчаянно пытаясь увидеть в его глазах своё отражение, стараясь понравиться ему. Но, видно, не судьба – её избранник не хотел видеть ничего, кроме экрана телефона, который его развлекал. Он предлагал своей спутнице посмеяться вместе с ним, но ей хотелось, чтоб он смотрел только на неё, не отвлекаясь от их великой любви ни на секунду.
Эта пара была наглядным пособием по любви грядущего дохлого поколения. Поколения, где мужчина слишком занят своим досугом, а женщина – собственной персоной. У них нет сил и времени на настоящую преданность, ответственность, ласку, принятие. И это поколение закончит так же грустно, как и предыдущие, потому что совершает ту же ошибку: гонится за навязанными идеалами и внешними проявлениями чувств, игнорируя душевные качества и черты характера, что их порождают.
И девушка вглядывается в своего избранника, следя за каждым движением его ресниц и губ, не зная о том, что глаза его никогда не распахнутся от радостного, детского удивления, потому что он давно утратил дух детства. Его губы никогда искренне не отзовутся на её счастливую улыбку, потому что его давно не волнует счастье других людей, а мышцы не вздуются буграми от бешеного адреналина, когда будет необходимость защитить её. А самое страшное в этом то, что, если случится чудо и он увидит, почувствует и отзовётся – она увидит не радостное удивление, а инфантильную эйфорию, не отклик её улыбки, а рабское подобострастие, не желание защитить, а дешёвое пижонство.
Настоящая любовь тиха и ненавязчива. В ней нет места жгучей страсти, ревности, игре, притворству. Ты просто позволяешь другому человеку быть рядом с тобой таким, каков он есть, и сам не стесняешься своей сути. Просто живёшь, чувствуя, что он есть в этом мире, даже когда он очень далеко. Тебе просто интересно увидеть, каким он станет через десять, двадцать, тридцать лет. Когда ты просто видишь человека со всеми его недостатками, слабостями, щербинами в душе, кривыми ногами и лёгкой лопоухостью… и всё равно любуешься. Всё равно любишь.
Я перевёл взгляд на угловой столик. За ним сидела небольшая компания громких мужчин. Такое впечатление, будто они выбрались что-то интеллигентно отпраздновать, но слишком увлеклись. Двое из них что-то громко обсуждали. Особенно шумен и весел был толстяк в толстом бежевом свитере. Его лицо налилось кровью, губы рябили, с дикой скоростью выплёвывая слова, и только тёмные глаза задорно блестели. Его индивидуальность и обаяние проявлялись в движении. Без него, на фотографии, например, лицо мужчины показалось бы одутловатым и некрасивым. Сейчас же вся его внутренняя красота, красота деятельного и активного человека, отразилась в неподдельном оживлении, сопровождаемом богатой мимикой. Мне безумно захотелось увидеть, как этот мужчина вернётся домой, и его улыбка погаснет. Как его горячее веселье остынет, оставив глубокие морщинки у рта и искорки в тёмных глазах, так похожих на остывающие угольки.
Мужчина, что сидел напротив толстяка, высокий лысеющий блондин, поймав настрой собеседника, поддерживал веселье в компании. Тихий и спокойный, он уравновешивал буйную энергию товарища. Его руки лежали на столе, пальцы были сплетены, оберегая хозяина от ярких эмоций товарища, сидящего напротив. Он неосознанно крутил обручальное кольцо, будто оно давало ему силы. Хотел бы я увидеть, как он смеётся до слёз, до боли в мышцах живота, до момента, когда в лёгких кончается кислород, теряя над собой столь привычный контроль.
Третий, молодой брюнет невысокого роста, тщедушный и слабый на вид, зачарованно смотрел на дискутирующую парочку, переводя взгляд с одного на другого, в зависимости от того, кто брал слово. Казалось, он смотрит увлекательную партию по пинг-понгу, только вместо шарика летали слова, отбиваемые разумом столь непохожих по духу и столь близких по уровню людей.
Четвёртый из их компании был скучен. Коротко стриженный блондин с красивым греческим носом лениво развалился на стуле, почти не принимая участия в разговоре. Руки он заложил за спину и тускло смотрел на размахивающего руками толстяка.
За столиком напротив сидел ухоженный мужчина в деловом костюме. Непонятно было, что привело его в столь поздний час в кафе в историческом центре города. Но даже сейчас, когда он был свободен от забот рабочего дня, сказывалась многолетняя привычка раздражаться. Он грубо тыкал пальцем в лежащий перед ним планшет, злобно кривя губы.
Забавно! Он наверняка имеет намного больше собственности, чем я, парочка у окна, мужчины, шумящие в углу, вместе взятые. Он имеет планшет, о котором может мечтать девочка, машину, на которой хотел бы кататься её молодой человек, квартиру, в которой бы не отказался жить я, и свой собственный бизнес, о котором мечтает тихоня в громкой компании.
И скорее всего он тоже когда-то мечтал иметь всё это. Значит, исполнение мечты не делает человека счастливым? Или это не было его мечтой? Может быть, его мечтой было что-то другое, а он, забыв её, не узнав её, пройдя мимо, исполнял чужие мечты? Только чьи? Абстрактного успешного человека, ценность личности которого равна ценности имеющейся у него собственности?
Откуда мне знать? Я ничего не знаю ни про этого человека, ни про веселящихся мужчин, ни про влюблённую парочку. Я выдумал все эти нелепые истории о любви, мечтах и человеческих устремлениях. Но кто знает, сколько в моей выдумке правды?
Я опустил глаза в меню и усмехнулся.
И тут… Ко мне пришла красота. Она появилась неслышно, как тень, скользнула из-за правого плеча и изогнула губы в вежливой полуулыбке.
Я моргнул, подумав, что двинулся умом на нервной почве.
Но нет, она была реальна: на её шее билась синяя жилка, она дышала, мяла в руках истрёпанный блокнот и носила джинсы, майку, туфельки без каблука и… фартук. Официантка?
– Здравствуйте, вы уже готовы заказать?
Её голос с лёгкой хрипотцой пробрал до печёнок. В желудке появилось щекотание немого восторга. Я немедленно опустил глаза в меню.
– Да, принесите, пожалуйста, вот этот чай, – я промахнулся мимо выбранного мною чая, ткнув в соседний. Всё равно. Только бы не спугнуть. Только бы не запомниться.
Её узкая рука с нежными тёмными волосками на предплечье, невесомой цепочкой золотого браслета и неожиданно тонкими пальчиками протянулась к меню.
– Я заберу или будете заказывать что-то ещё?
– Да, – невпопад ответил я и отодвинул от себя папку.
Ловким движением она закрыла папку и ушла на кухню. А я повернулся вспыхнувшим лицом к холодному стеклу и невидяще уставился в окно.
Я попытался понять, что со мной случилось и почему меня так поразила заурядная внешность ничем непримечательной девушки. Первая мысль была глупой: именно так я в юности представлял себе любовь с первого взгляда. Резкий выброс гормонов в кровь, внезапное возбуждение, вспыхнувшее лицо… Я закрыл глаза и попытался нашарить внутри это новое, так агрессивно завоевавшее мою душу чувство.
Оказалось, что у меня даже не было желания с ней знакомиться. Я не хотел знать её мыслей. Я не хотел знать, чем она живёт. Мне даже было всё равно, как её зовут. Удивительно, но я даже её не хотел как женщину. Я не чувствовал к ней ничего вообще.
Но радостное дрожание в желудке не проходило. Я вспомнил изгиб её губ, форму кисти, лёгкий румянец и понял, что это было восхищение. Безотчётный восторг от восприятия гармонии женской красоты, когда любой недостаток стоит дороже самых ярких достоинств, подчёркивая и усиливая индивидуальность. Когда всё, что есть в человеке, в его внешности и в его характере, складывается в живую картину, не идеальную, не совершенную, но божественно гармоничную, как музыка, которая полна диссонансов, но всё равно прекрасна.
Она снова вышла из кухни. Я уставился на её отражение в стекле, силясь зафиксировать, постичь и запомнить то, что так потрясло меня. С замиранием сердца я изучал её с ног до головы: форму стопы с высоким подъёмом, линии почти по-мужски мускулистой голени, неожиданно широкие бёдра и девически тонкую талию. Мои глаза подмечали каждую деталь: покатость плеч и хрупкость шеи, высокие скулы и кругловатый подбородок. Я силился разглядеть в стекле изгиб бровей и форму уха, за которое была заправлена прядь пушистых, нещадно скрученных на затылке волос, но не мог. Я мысленно плюнул на все правила приличия и, отвернувшись от стекла, стал наблюдать за ней напрямую, как она снуёт по залу, изредка останавливаясь у барной стойки, замирая, как ненужная в данный момент машина. В эти моменты она смотрела в зал, и её глаза блестели, как порой блестят от неизбывной тоски. А потом её окликал повар или кто-то из посетителей, и она движением ресниц прятала этот лихорадочный блеск, подменяла его тёплой искрой немного грустной ласки.
Я следил, вбирая её в себя, разбирая на детали и соединяя вновь. Я выучивал её наизусть, как учат стихотворения и песни. Закрывал глаза и пытался повторить её, нарисовать силуэт в багровой темноте внутренней стороны век. И не мог… Было в её облике что-то неуловимое, чего мне пока не дано было понять.
Она подошла к столику, за которым сидел мужчина в костюме. Ласковая вежливость в её лице преобразилась, стала ещё мягче, нежнее. Я подумал было, что это её знакомый, но он раздражился на неё, и я понял, что ошибся.
Тогда я решил, что она захотела ему понравиться. Не кичась, не воображая, она просто демонстрировала ему тепло, которое могут дарить её глаза. Но разве ему было дело до тепла в чужих глазах? Думаю, такие, как он, с первых своих успехов конвертируют всё на свете в валюту. Вежливая улыбка – столько-то денежных единиц. Горячий кофе – ещё столько-то. Женщина рядом – столько-то в зависимости от выполняемых женщиной функций.
От этой женщины за его деньги ему требовался только высокий сервис, который он, видимо, не получал. И от этого злился.
Она сникла, и её улыбка дрогнула. Отвернувшись от мужчины, она ушла на кухню, мимоходом перемолвившись словом с барменом.
Она ушла, а я перевёл взгляд на окно, в этот раз не вглядываясь в отражения, а следя глазами за редеющими каплями на стекле, которые рисовали разветвлённые узоры на фоне начинающегося рассвета. Минута проходила за минутой, а она всё не появлялась.
Я поймал глазами другую официантку, которая принесла пиво и счёт веселящейся компании. Она подошла ко мне.
– Вы что-то хотели?
– Не могли бы вы принести счёт?
– Конечно.
Она отошла к барной стойке и вернулась с пухлой маленькой папочкой. Я высыпал в один из кармашков всю мелочь, которая у меня была. Собравшись уже уходить, я вспомнил, что мне так и не принесли чай. И решил подождать, чтобы моё поведение не показалось странным.
Моя официантка пришла с опухшими глазами и покрасневшим носом. В руках её был маленький поднос с чайником. Пальцы, так изящно изогнутые, лёгкими касаниями поддерживали его. Она подняла на меня глаза, скользнула взглядом по моей голове, и на её опустошённом лице промелькнула мысль, озорная и пугливая.
– Извините меня, я на минуточку, – сказала она и, описав подносом полукруг, исчезла за дверью.
Я удивился. Что она задумала? Уже плюнула в чай, и при взгляде на мою физиономию у неё пробудилась совесть? Или решила подсыпать слабительного по зову природной вредности? Или просто перепутала заказ? Тогда с каким столиком? Кроме меня, в зале остался только высокий блондин, который сонно допивал свою последнюю кружку пива.
Она пропадала не больше минуты. На подносе стоял тот же самый чайник. Она поставила поднос передо мной, испуганно улыбнулась и убежала. Я успел напоследок прочитать её имя на красном бейдже, прикреплённом к футболке. Александра. Я налил чая в чашечку и отпил. Чай был горячий и ароматный. Я смаковал его, как и её имя. Нежное начало и твёрдое окончание. Гармония несовместимого. Имя очень ей шло. И тут меня осенило. Я залпом выпил пару чашек (недаром же я ждал этот чай, в конце концов) и подошёл к бармену.
– Извините, не подскажете, во сколько у вас заканчивается смена?
Парень хмуро повернулся ко мне.
– Через пятнадцать минут.
– Спасибо.
Я взял дождевик и вышел на улицу. Город был затоплен живой тишиной и молочным туманом. Восходящее солнце нежно расцвечивало его, даря лёгкие оттенки всех цветов радуги. Оставшиеся после ливня лужи отражали спящие дома. Всё вокруг дышало таким отдохновением и такой безмятежностью, что казалось, будто я вышел из двери прямиком в сказку. Ещё пара шагов – и туман расступится, и откроется прекрасный замок, в самой высокой башне которого спит принцесса, цвет кожи которой нежнее цвета этого голубоватого тумана, а румянец – совсем как заря, разгорающаяся на востоке. Её платье соткано из лучей утреннего солнца, а глаза, ещё скрытые под беспокойными ресницами, голубые, как небо после дождя… Такие, как у этой девочки-официантки.
Я пошёл в обход здания, чтоб поймать взглядом ещё раз эту принцессу, которая много жизней назад лишилась своего королевства. Во дворе, где вдоль обшарпанных стен протянулись гнутые водосточные трубы, возле выкрашенной зелёной краской железной двери стоял мусорный контейнер. Я высунул голову из-за угла и начал ждать.
Она появилась минут через пять, в наброшенной на плечи куртке, с сигаретой в руке, и села на пороге. Я спрятался поглубже и почти не видел её, зато в утренней тишине прекрасно слышал скрип мокрого песка у неё под ногами и шорох одежды.
Двор молнией пересекла трёхцветная кошка. Она подбежала к официантке и жалобно мяукнула. Я прислонился спиной к стене дома, закрыл глаза и весь превратился в слух.
– Ну чего ты мяучишь? Нет ничего для тебя.
Кошка снова мяукнула.
– Ну прекрати, у меня правда ничего нет!
Кошка мяукнула ещё раз.
Недолгая пауза.
Едва слышный щелчок. Окурок полетел на землю.
– Ладно, – вздох. – Жди, сейчас принесу.
Шуршание одежды. Скрип петель. Звук хлопнувшей двери.
Тишина, нарушаемая только шлёпаньем капель с карниза.