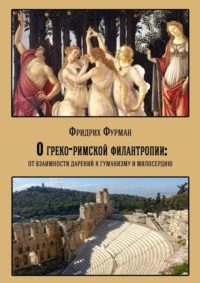
О греко-римской филантропии: от взаимности дарений к гуманизму и милосердию
Оставаясь в своей основе примитивным аграрным организмом, более всего дорожившим своим прошлым и его ценностями, римское общество на рубеже старой и новой эры отреагировало на обрушившееся на него богатство распадом привычных форм жизни и моральным разложением. Накопленные Римом огромные деньги можно было лишь ограниченно вложить в интенсификацию производства. «…в основном и главном, их можно и нужно было либо прятать, и хранить, либо потребить-проесть, промотать, «простроить»21. И, добавим – пожертвовать, то есть раздарить-раздать.
Однако вместе с упадком старой морали, жизнь в богатеющем Риме, как ранее в преуспевающих греческих полисах, конечно, не могла не стать лучше, духовнее, культурнее – добытые городом богатства, расцвет ремесла и труд рабов делали это возможным. В отличие от консерватора Криспа, Овидий примерно в то же время восхвалял этот прогресс: «Пусть другие поют старину, я счастлив родиться ныне, и мне по душе время, в котором живу!». Это столкновение двух тенденций сопровождало Рим в течение всей его долгой истории, и оно нашло свое отражение не только в исторической литературе, но и в философии, религии, социальной этике и, как мы увидим далее, в его идее филантропии. Римляне, как, впрочем, и все последующие поколения, страны и социальные системы, вынуждены были научиться разрешать это вечное противоречие, соединяя консерватизм и прогресс, «заветы предков и выгоду потомков».
В политическом устройстве Рима это противоречие между «прошлым и будущим» нашло свое разрешение в фактической гибели гражданской общины. «Ее простой, грубый, из себя живущий хозяйственно-политический организм, – заключает Г. Кнабе, – просто рухнул под грузом непосильных для нее необъятных территорий и несметных богатств, которые Рим втягивал в себя в ходе победоносных войн в последние столетия старой эры»22. Главные вопросы государства решаются теперь по воле принцепса, подкрепленной военной силой, а не в результате борьбы влиятельных родов в народном собрании и сенате. Растет число лиц и групп, не участвующих в общественном производстве, особенно в земледелии, а получающих долю общественного продукта за счет централизованно, по воле первых лиц государства, распределяемой ренты, то есть избытка богатств в его руках. Наконец, покоренные страны перестают быть просто хищнически эксплуатируемым придатком общины города Рима, они постепенно поглощают ее, сплавляясь с ней в единое государственное образование – империю, которой было суждено править миром еще несколько столетий.
Однако идеология и общественная мораль еще 100—150 лет продолжали ориентироваться на полис и его каноны. Императоры упорно представляли свою власть как исполнение обязанностей должностного лица, обычного гражданина республики, в руках которого власть оказалась благодаря его личным заслугам, воле сената и народа, доверием которых он все еще дорожил. Вся идеология оппозиции императорам со стороны сената, провинций и большинства литераторов, описывавших происходящее, продолжала строиться на ценностях гражданской общины, хотя почти всем было ясно, что ее время уже ушло.
Между тем общий строй полисной жизни, завершает Г. Кнабе, этот замечательный очерк ее многовековой эволюции, еще сохранялся в остальной империи: в многочисленных военных лагерях, центрах италийских племен, деревнях и городах, вообще – на периферии, даже в завоеванных странах. Если идеология римской общины на полтора века пережила ее хозяйственное и политическое крушение, то полисные формы социальной психологии и этики, включая филантропию, оказались еще живучее.
Вплоть до поздней античности сохранились устойчивые дружеские и соседские микроколлективы, в том числе множество ассоциаций (коллегий) самого разного толка – от спортивных до религиозных, а среди последних и растущее число иудейских, иудеохристианских, а затем и чисто христианских общин с их принципиально иной благотворительностью.
1. Природа бедности и филантропии в греко-римском мире
Бедные – кого так называли и как с ними обходились
Экономическое неравенство в греко-римском мире достигало огромных размеров. Концентрация богатств в руках немногих аристократов, правителей и торговцев, число семей которых, например, в демократических Афинах 5-го века до н.э., составляло не более 300, сопровождалась обеднением и обнищанием основной массы населения городов-полисов.
Бедными в античном мире очень редко называли тех, кто жил в крайней нужде или полной нищете. К бедноте относили подавляющее большинство граждан городов-государств, которые не могли из-за недостаточного дохода своих земельных владений вести независимый и праздный образ жизни, считавшийся тогда эталоном «достойного гражданина». Многие из них имели скромный участок земли, где были вынуждены работать сами, используя нескольких наемных работников и рабов, и потому почти не принимали участия в праздной жизни города, охватывающей политику, развлечения, клубы и т. п.
От бедности легко отличали нищету, о которой грек Аристофан, «отец комедии» (прим. 444—380 гг. до н.э.), сказал, что это участь нищего вести жалкую жизнь, не владея ничем; бедный же, чтобы жить скромно, вынужден отдавать свое время работе, ничего не сберегая, но и не испытывая нужды. Римский сатирик Ювенал (прим. 50—127 гг. н.э.), сам выросший в большой нужде, писал, что бедный – это человек, имеющий достаточно средств, чтобы избежать праздной нищеты, и его главная забота не в том, как накормить себя, а как не опуститься до необходимости работать23.
Итак, бедный – это трудящийся или тот, кому грозит эта незавидная в античном мире участь. Неудивительно, что бедными в этом смысле было подавляющее большинство жителей городов этого мира, и именно к ним относили коллективный термин demos в Греции или populus в Риме. То обстоятельство, что, кроме скромного достатка, они были еще и обладателями избирательного права, делало высшие слои городов-государств весьма зависимыми от них. На этой основе и складывалась здешняя система «филантропии взаимности», о которой пойдет речь ниже.
К нищим же греко-римские авторы, сами, как правило, из состоятельных семей, относили людей, «которые чешутся», то есть полностью опустившихся, и не только лишенных собственности, но почти не имевших средств повседневного существования и вынужденных потому просить милостыню. Любопытно, что Платон в своем проекте «идеального государства» исключал присутствие нищих, добывающих средства к жизни бесконечными мольбами, но не видел возможности избавиться от бедных, так как при этом государство может разориться или разрушиться.
Признавая важную роль бедного большинства – как при греческой демократии, так и в римской республике – в политической и социальной жизни, античные авторы, тем не менее, весьма пренебрежительно, даже презрительно, к нему относились. Вот как, например, характеризовал Цицерон демос в одной из своих речей, риторически вопрошая своих оппонентов: считаете ли вы, что к римскому народу относятся те, чьи услуги и труд мы получаем за плату? …это скопище народа, стадо рабов, наемных работников, бродяг и нищих? По его мнению, вся масса городских пролетариев – это пораженные унизительной бедностью отбросы города и их следует вывезти в колонии, где есть свободные земли, чтобы перестать политически от них зависеть.
Подобное отношение к бедным, а тем более к нищим – как к бесчестным людям, не заслуживающим снисхождения – находится, отмечает Хэндс, в резком контрасте с большинством текстов иудейского Пятикнижия и христианского Нового Завета. В них бедные приравниваются к добродетельным людям, заслуживающим лучшей участи, если не в этом мире, в котором богатых призывают помочь им, поделившись своим добром, то на том свете, где о них позаботится сам Бог24.
Античность знает многие попытки социальных реформ для решения проблемы массовой бедности, и большинство из них относятся к периодам, когда резко углублялась пропасть между бедными и богатыми. Так было, к примеру, при Солоне в Греции (7—6 вв. до н.э.) и несколько веков спустя при братьях Гракхах в Риме. Тогда обезземеливание крестьян и взлет за их счет числа безработных городских пролетариев – тех, о которых столь нелестно говорил Цицерон (и не только он один) – достигали угрожающих размеров. И чаще всего попытки таких реформ были направлены на возврат к ностальгическому прошлому за счет ликвидации долговой кабалы и перераспределения общественных земель. При этом бедность и безработица считались результатом скорее «лености» народа, чем неизбежным социальным злом, для борьбы с которым уместна не только реформа или революция, но и регулярная благотворительность для бедных под опекой государства. Чтобы это произошло, понадобилось еще полторы тысячи лет, и когда ситуация повторилась в Англии – при массовом отъеме феодалами земель у крестьян в ходе их «огораживания» под пастбища – мудрая Елизавета I, трезво оценив феномен угрожающе растущей бедности и нищеты, признала их неизбежным злом, борьбу с которым должно взять на себя государство. Так в 1601 г. появился знаменитый Закон о бедных, ставший впоследствии на Западе основой законодательства о филантропии на последующие века.
Но в Греции и Риме еще существовали другие пути, позволявшие обойтись без государственного решения проблемы бедности. Главнейшим из них была колонизация городами-государствами новых земель в ходе постепенного переселения и захватнических войн – в самих Греции и Италии, а затем на востоке – в Малой Азии, Персии и Африке, наконец, на западе и севере – в нынешней Европе. Недаром Платон, проектируя свое идеальное государство, писал, что, если нельзя избавиться от бедности в существующем государстве, надо создать новое, то есть колонию. Другой путь предотвращения нищеты, доступный главам обедневших семей греков и римлян – пойти в наемники в другие страны, особенно на Востоке. Здесь несколько тысяч греков служили в войсках персидских царей и их сатрапов, зарабатывая своей кровью право на землю или деньги на ее покупку. В поздний период Римской республики, с началом гражданских войн, сходная возможность была у городских пролетариев – например, встать под знамена Цезаря или Помпея и превратиться затем в профессионального легионера, которому полагалась не только зарплата, но и часть добычи, включая земли, а когда появилась империя, то и пенсия.
Кроме «позитивных», существовали и «негативные» способы борьбы с бедностью и нищетой, когда речь шла не о росте доходов, а о сокращении расходов на содержание семьи. Одним из главных среди них был, как сейчас принято писать, «контроль рождаемости», то есть контрацепция и аборты. Но если и это не помогало, а семья находилась в тисках бедности, новорожденных бросали на произвол судьбы. И это была весьма распространенная практика, судя по тому, сколько внимания уделялось этому прискорбному явлению в античной литературе. Многие ее авторы считали, что родители имеют право на эту жестокость, так как лучше дать новорожденному погибнуть сразу, чем обречь его на «несчастье бедности» в течение всей жизни. Зато тем детям, которым родители позволяли выжить, они обязаны были обеспечить достойную жизнь.
О том, что эта жутковатая практика была широко распространена, особенно при резком ухудшении жизненных условий, говорит преобладание в эллинском мире во 3—2 веках до н.э. семей с одним ребенком. Если же детей было двое, то это были, как правило, сыновья (на случай гибели одного из них на войне), тогда как семьи с двумя девочками были большой редкостью25. Но и в Риме эта проблема существовала и обсуждалась, только здесь она облегчалась большей возможностью территориальной экспансии и основания новых колоний, куда могли перебраться обнищавшие римские граждане. Только в 4 веке н.э., когда христианство стало в империи господствующей религией, император Константин, а позднее Феодосий I запретили родителям покидать младенцев на произвол судьбы, зато предоставили им право при крайней нужде продавать их в рабство. В древней Греции и Риме, вплоть до христианских времен, не существовало ни приютов для брошенных младенцев, ни общественных сиротских домов. Правда, римское государство брало на себя ответственность за содержание «сирот войны», а в богатых домах, особенно аристократических, существовал обычай заботиться о выживании чужих младенцев-сирот, наследующих отцовское имя и состояние. Но ни государство, ни правящий класс не проявляли специального интереса к сиротам вообще.
Как реагировали классические авторы на жгучую проблему бедности и нищеты своего времени26? Начать с того, что они принимали их как неизбежный жизненный факт, и, за исключением таких выдающихся философов, как Платон и Аристотель, или государственных деятелей, как Солон и братья Гракхи, не предлагали радикальных путей решения проблемы.
Но признавая неотвратимость бедности и нищеты, они продвигали не универсальный лозунг «помоги нуждающемуся», а расчетливый совет «помоги достойному, когда он попросит об этом», как об этом писал еще в 6 в. до н.э. древнегреческий поэт Феогнид. Эта же идея прозвучала в 4 в. до н.э. у греческого ритора Исократа – «делай добро для добродетельного», а спустя два столетия и у римлянина Катона Старшего – «отвечай добром на добро» (bono benefacito). Век спустя его соотечественник Цицерон убеждал: «помогай лишь тем, кто этого заслуживает». Ему же принадлежит изречение-приговор – «благодеяния недостойным равны злодеяниям». Еще через столетие у Сенеки это звучало так: «жертвуй тем, которые способны сами совершать добрые поступки». Затем он продолжает: «Это заблуждение думать, что дарить легко… Некоторым людям я не буду дарить, хотя они и нуждаются, так как и после моего дара они все равно будут нуждаться», имея ввиду, очевидно, что, как сказано у В. Даля, «в худого коня корм тратить, что в худую кадушку воду лить».
С чисто житейской точки зрения с этими взглядами трудно спорить, поскольку за ними стоят здравый смысл и знание человеческих пороков – ведь так часто «не в коня корм». Но в социальном плане это были взгляды представителей аристократии, которые к бедным предъявляли мало выполнимые этические требования своего круга о достоинстве и заслугах, о сходном стиле жизни, об ответных услугах. Это практически исключало ту известную в наши дни благотворительность богатых для бедных, о которой писал В. Тарн (см. введение к этой книге). Поддержки богатых удостаивались тогда обедневшие люди своего круга – клиенты благодетеля, а также образованные и умелые рабы или вольноотпущенники, способные не только оценить дар или услугу патрона, но и в приемлемой форме ответить тем же. Известно, что число наследств, оставленных богатыми и знатными римлянами «достойным» вольноотпущенникам, было значительно больше числа наследств не только для своих сограждан, но и для детей завещателей.
Сама по себе традиция обуславливать поддержку бедных или милостыню нищим требованиями «соответствия», нашла сторонников и у отцов христианской церкви. Как отмечает Хэндс27, не все из них были согласны с радикальным утверждением Иоанна Златоуста (344—407 гг.), что для христианина не должно быть важным действительно ли бедняк нуждается в помощи и что лишь он сам несет бремя ответственности за решение отказаться, если она ему не нужна. Далеко не всякий в нужде способен нести подобное бремя принятия этически верных решений. Эта же этическая проблема возникла и в иудейской традиции филантропии, и здесь она также сопровождалась различными толкованиями28. Наиболее осторожные из отцов церкви были согласны с Сенекой в том, что быть благодетелем нелегко, они, однако, уже не связывали, как римские авторы, «достоинство» получателя с владением собственностью, образованием, взаимностью, хотя и ожидали, что бедный выполнит любую работу, которую ему предложит христианская община. Это была христианская модификация обычая взаимности, широко применявшаяся в последующие века, например, работа на церковный приход, монастырь, или город в Средние века29.
Особенно странным казалось богачам Рима, склоняющимся в первые века нашей эры к христианству, его требование отдать все свое богатство бедным, и лишь немногие, искренне принявшие это вероучение, поступали так. В первую очередь потому, что они почти не видели среди нищей пролетарской массы Рима и провинций империи привычных им «бедняков», достойных столь выдающегося пожертвования. Затем, оттого что они, если и жертвовали на сограждан, то чаще всего из дохода своих имений и предприятий, не трогая основной капитал. Наконец, даже если они так поступали, то только жертвуя своему городу, клубу, храму, на проведение игр и других празднеств, на раздачу зерна, то есть всем гражданам, включая бедных и нищих, и получая взамен достойные их дара почести.
Каковы же корни этой традиции взаимности и как она работала?
Особенности греко-римской традиции филантропии
Пожертвования на основе взаимности
Взгляды людей греческого и римского мира на филантропию наиболее ярко выражены у Аристотеля, этические идеи которого затем активно использовали, толковали и оспаривали многие поколения философов, историков и литераторов. «У Аристотеля, – осуждающе замечает британский философ Б. Рассел, как это сделал до него В. Тарн в отношении всех античных авторов, – можно обнаружить почти полное отсутствие того, что мы сейчас называем благотворительностью или филантропией. Общечеловеческие страдания в той мере, в какой он их знал, эмоционально мало его трогали; он воспринимал их как бедствие лишь умом, но нет никаких свидетельств, что он чувствовал себя из-за них несчастным, если только они не касались его друзей»30.
Действительно, в своих работах по этике Аристотель рассматривает филантропию как дарения друзьям, родственникам, согражданам – вообще «правильным людям», заслуживающим такого дара, – если они отличаются добродетелями и, если они могут ответить взаимностью, то есть ответным даром. Дружба, или солидарность, как природный инстинкт человека, создающий в условиях греческого полиса-государства социальные связи, служит у Аристотеля главной нравственным мерилом и основным мотивом пожертвований. Причем их получателями могли быть также бедные, нищие, больные, если их характер и поведение позволяли дарителю отнести их к своим друзьям и доброжелателям, готовых ответно «услужить» дарителю в будущем.
Эта языческая концепция филантропии выглядит с нынешней точки зрения чрезмерно расчетливой и эгоистичной: она скорее похожа на экономическую операцию обмена, чем на альтруистический порыв. Он, обмен, на самом деле, имел здесь место, но в соответствии с представлениями древних о солидарности и взаимопомощи. При родоплеменном, а затем и полисном строе, с их неразвитостью производства и дефицитом ресурсов древний альтруизм неизбежно приобретал форму взаимного обмена.
Римские философы восприняли естественную и для их гражданской общины греческую концепцию взаимности дарений и развили ее далее. Более всего преуспели в этом стоики в рамках своего учения об осознанно добродетельной жизни. И наибольший вклад в развитие концепции взаимности внесли поздние стоики, а среди них Анний Луций Сенека. Его книга «О благодеяниях» (ок. 60 г. н.э.) представляет собой обобщение римской практики благодеяний (дарений и добрых услуг) донора и соизмеримой ответной благодарности их получателей. Трактат Сенеки был, по мнению историков филантропии той эпохи, как развернутым путеводителем по практике дарений, так и этическим наставлением для будущих благодетелей и их клиентов-благополучателей31. Будучи апологетом римской гражданской общины на этапе империи и одновременно обличителем ее растущих пороков, Сенека видел во «взаимной филантропии» – круговороте разумных дарений-благодеяний и ответной благодарности, способ сохранения единства этой общины. Если все люди – граждане единого государства, являясь частицами единого божества, то непрерывные цепи обмена своевременными и соразмерными дарениями и ответными благодарностями являются «скрепами» единства общины и целостности государства. Сенеке также принадлежит единственно сохранившаяся в письменных источниках, но идущая еще от греков развернутая интерпретация образа трех харит, или в римском варианте – трех граций как яркой аллегории взаимности дарений-благодеяний32. Вот как эта трактовка выглядит в его книге «О благодеяниях»:
«(2) …Почему граций три, почему они между собою сестры, для чего они сплелись руками, для чего улыбаются, для чего они (изображаются) девы и одеты в просторную и прозрачную одежду?
(3) Некоторые утверждают, что одна из них изображает дающую благодеяние, другая принимающую, третья возвращающую обратно. Иные видят в них олицетворение трех родов благодеяний: дарования, возвращения, дарования и возвращения вместе. …Что означает хоровод граций, сплетшихся руками и обращенных лицами одна к другой? То, что благодеяния, переходя в последовательном порядке из рук в руки, тем не менее в конце концов снова возвращаются к дающему их. Порядок этот совершенно разрушается, как скоро раз бывает нарушен, и, наоборот, принимает в высшей степени прекрасный вид, как скоро бывает сохранен и удержана в нем (последовательность) взаимность.
(5) Грации улыбаются: это по той причине, что лица тех, которые дают или принимают благодеяния, бывают обыкновенно радостны. Они – юны, ибо воспоминание о благодеяниях не должно стареть. Они девы, ибо (благодеяния) непорочны, чисты и святы для всех. В благодеяниях ничего не должно быть невольного, связанного или принужденного – вот почему грации одеты в просторные туники, и притом в прозрачные, ибо благодеяния требуют того, чтобы их видели»33.
Французский социальный антрополог Денис Видал исследовал эволюцию мифа, понятия и образов трех граций от архаической Греции – через имперский Рим – до Возрождения и Просвещения. Он обнаружил, что на протяжении многих веков хариты (у греков), грации (у римлян) были больше или меньше связаны с античной практикой обмена дарами, нашедшей наиболее яркое воплощение в аллегории трех граций, использованной Сенекой в его трактате «О благодеяниях». Более того, три грации в аллегорической трактовке Сенеки становятся «тремя милостями», отражая их миссию благодати богов в «обороте даров». Тем самым аллегория Сенеки, по мнению Д. Видала и его коллег, сближается с зарождающейся в том же 1-м веке христианской концепцией «Божьей Благодати», воплотившейся в жертве-дарении Иисусом своей жизни людям ради их Спасения. Недаром впоследствии христианские апологеты и отцы церкви высоко чтили Сенеку-философа, особенно его трактат «О благодеяниях» как предтечу идеи христианской благотворительности, и даже публиковали его переписку с апостолом Павлом, оказавшейся, однако, подделкой. Д. Видал, как и многие современные исследователи проблемы, находят почти полное сходство трактовки социальной ценности взаимного обмена дарами-благодеяниями у римлянина Сенеки в 1-м веке и у французского антрополога Марселя Мосса в его работе «Опыт о даре», опубликованной уже в веке 20-м. Они, правда, не могут понять, почему в его работе ни разу не упоминается трактовка Сенеки, хотя для обоснования своей концепции дарообмена в архаических обществах Мосс широко использовал также и греко-римские источники34.
Как бы там ни было, именно Мосс первым из современных социальных антропологов и этнографов исследовал природу дарения в архаических обществах. С этой целью он изучил этические обычаи в сохранившихся до наших дней примитивных племенах Северной Америки, Полинезии, Австралии, Африки, затем обратился к работам о правовых и этических системах древних римлян, германцев, индусов, других индоевропейских племен и государств. Как утверждает Мосс в своей ныне классической, а в свое время и сенсационной, работе «Опыт о даре. Формы и основание обмена в архаических обществах»35, в этих обществах существовала развитая система дарений. Каждый дар был частью тщательно разработанной схемы взаимности, в которую были вовлечены честь, доброе имя и собственность как дарителя, так и получателя. В ней были переплетены элементы статуса, а также духовных и материальных владений всех членов общины. Суть ее была весьма простой – это было правило, по которому каждый дар должен быть возвращен в форме и в сроки, установленные обычаем. Так складывался непрекращающийся цикл обменов дарами в пределах данного поколения и между поколениями. В ряде случаев ответный дар должен быть эквивалентен начальному, создавая стабильную систему статусов. В других его «цена» должна превышать ценность предшествующего дара, провоцируя нарастающую конкуренцию «цен чести» у пар, связанных взаимными дарами. Считалось, что каждый подаренный предмет или услуга как бы несли в себе священную энергию, которая оставалась нестабильной и опасной для получателя дара, пока он не совершал ответный дар, эквивалентной или большей ценности. Ведь и жертвы, приносимые как языческим богам, так и единому Богу евреев или Спасителю христиан, также подразумевали их ответный дар, и священные писания всех религий тому свидетельство. Так складывалась по Моссу «духовная экономика» бесконечной цепи эквивалентных обменов дарами, обязывающая получателя ответно дарить, а дарителя вновь получать – под страхом суровых санкций богов. Отказ дарить и получать подарки был, можно сказать, равносилен объявлению войны.

