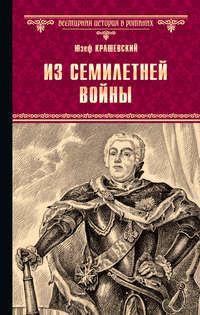
Из семилетней войны
Король Август II, за несколько десятков своих саксонцев-великанов, получил в награду замечательные по своей величине, японского фарфора, сосуды, единственные во всей Европе, в которых можно было даже купаться, как в ваннах.
Разумеется, гренадеры давно уже спят в земле, а японские вазы до сих пор стоят в дрезденском музее.
Фредерсдорф только еще начинал торговать; его торговля шла в самых маленьких размерах, и он не снимал с себя даже кожаного передника, и вот в одно прекрасное утро в его родном местечке в Франконии появились вербовщики. Юношу-великана заметил капитан Шмельс, известный своим искусством вербовщика. Его рук не избегал ни один, которого он наметил и считал годным в гренадеры.
Фредерсдорф, будучи от природы смирным и молчаливым, никогда не был расположен к воинственности и никогда и не думал о военной карьере. Его пригласили в ресторан «Золотое яблоко», напоили до беспамятства, и когда он очнулся далеко от родины, то на нем уже был надет прусский мундир. Трое товарищей капитана Шмельса уверяли его, что он сам согласился служить в гренадерах и что, в крайнем случае, они готовы подтвердить это под присягой.
Таким образом, ни старания родителей Фредерсдорфа, ни какая другая сила не могли вырвать его из рук вербовщиков. Молодой гигант должен был подчиниться силе. Но когда его привезли в Берлин и начали муштровать при помощи палки, так как в то время этот педагогический метод был в большом ходу, то оказалось, что даже всемогущая палка не могла в нем выработать военной выправки, требуемой от рядовых гренадеров, и капитан Шмельс, обративший внимание только на рост, получил за него строгий выговор.
Все-таки его не отпустили и старались сделать из него полезного человека, а так как Фредерсдорф имел большую склонность к музыке, то его заставили учиться играть на гобое и флейте.
Его зачислили в Шверинский полк, стоявший в Кюстринской крепости, в то самое время, когда сын короля Фридриха был арестован за свое намерение бежать. По прошествии некоторого времени молодой наследник престола стал развлекаться игрой на флейте и книгами. Это было поводом к сближению с Фредерсдорфом, и князь его очень полюбил.
В сущности, его нельзя было не полюбить. Его тихая, осторожная, внимательная и флегматичная натура не легко поддавалась впечатлениям, но раз он кого полюбил, то оставался верен ему навсегда. Как музыкант-флейтист, молодой солдат отличался особенной отчетливостью и чувством музыки, а как человек – обладал обширным сердцем, соответствовавшим его росту. Фридрих, находясь под строгим надзором в Кюстрине, выпросил у коменданта на время своего заключения доброго и скромного Фредерсдорфа в качестве денщика; князь его так полюбил, что даже поручал ему писать письма к сестре, маркграфине Байрот, в которых он умолял искать для него защиты у других королей.
Во все время ужасного заключения принца несчастный купчик был правой рукой Фридриха, а помощь при подобном положении была вещью очень рискованной, за которую можно было легко поплатиться жизнью; такая услуга никогда не забывалась.
Когда тяжелые для принца времена кончились, он был освобожден и снова допущен к отцу, то женился и первым долгом постарался освободить Фредерсдорфа от военной службы.
Флейтист тоже искренно привязался к своему господину во время его заключения в Кюстрине и поступил к нему на скромную службу в качестве лакея… но этот лакей, в то же время, был и приятелем Фридриха, который, не стесняясь пускать в дело палку, однако не решался поднять ее на своего слугу. Даже когда он был очень зол, ему достаточно было взглянуть на своего слугу, вечно веселого, довольного и спокойного, чтобы гнев его моментально прошел.
Своим хладнокровием Фредерсдорф всегда смирял запальчивость Фридриха II; это был единственный человек, который, несмотря на незавидную должность лакея, не выходил из милости короля и пользовался полным его доверием. В руках Фредерсдорфа хранились самые важные документы, деньги, ключи, и он никогда не злоупотреблял этим доверием. Кроме того, он имел еще и то достоинство, что никогда и ничего не просил для себя: он всем был доволен и исполнял без всяких возражений приказания, не вникая в их содержание, надобность или ненадобность.
Из скромного лакея он скоро сделался камердинером и первым слугой князя. А когда Фридрих II вступил на престол, то он сделал его своим тайным советником и казнохранителем. Но это не мешало королю мучить его до того, что его любимец чуть не сделался жертвою неустанных трудов.
Фредерсдорф случайно познакомился в Потсдаме с богатой и красивой дочерью банкира Дауна, и они понравились друг другу; страстная любовь запылала между ними тайно. Но Фридрих узнал об этом. Говорить ему о любви было все равно, что спрашивать слепого об отличии цвета материи. Король называл любовь комедией, так как сам никогда не испытывал ее. Для него все молодые девушки были одинаковы и, как он сам выражался, пахли чесноком. Прозаичнее и циничнее натуры трудно себе представить. Любовь Фредерсдорфа возмутила его, и первый раз в жизни он сильно напустился на своего любимца, бранил его и насмехался над его чувством. Он боялся, чтобы любовь к жене не лишила его необходимого слуги.
Не переставая смеяться и преследовать ненравившуюся ему любовь, Фридрих надеялся этим излечить своего друга, но не мог достигнуть этого; тогда король отправил Фредерсдорфа путешествовать во Францию, рассчитывая, что это рассеет его и он забудет о своих увлечениях; но, когда влюбленный серьезно заболел от скуки, король потерял всякое терпение и позволил ему жениться хоть на дьяволе.
Обрадованный Фредерсдорф сразу выздоровел, женился и снова вернулся на службу, так как король без него не мог обойтись. Он наградил его, подарив ему несколько имений, и все было позабыто…
Фредерсдорф в то время был еще очень красив, и высокий рост нисколько не мешал ему в его движениях и не лишал его приятности манер, выработанных при дворе: в нем уже нельзя было узнать прежнего купчика и полкового музыканта. Элегантный костюм делал его еще моложе, хотя этот туалет служил королю поводом к насмешкам, потому что сам он всегда был грязен, неопрятен и не любил в других чистоплотности…
Фредерсдорф вошел тихо, с улыбкой на устах и подошел к графине де Камас; в ту же минуту его быстрый взгляд заметил Симониса.
Экономка короля представила ему де Симониса, называя его в шутку своим протеже.
– Но знаешь ли, мой дорогой, как мне не везет с моим протеже!.. Кавалер де Симонис, вот уже почти год ищет занятий, и все безуспешно…
Фредерсдорф пожал слегка плечами, пробурчал что-то про себя, и разговор перешел на посторонние предметы. Последнее шумное торжество у принца Генриха дало им тему для беседы.
К счастью, де Симонис хотя издали был свидетелем этого пиршества и потому мог сказать о нем хоть несколько слов, ловко вставляя в их разговор свои остроумные замечания. Казнохранитель не прерывал его и слушал с большим вниманием, желая дать ему высказаться; как он, так и экономка, точно сговорившись, только изредка перебивали его, как бы для того, чтобы вызвать на дальнейшие подробности экзаменуемого.
Макс был в ударе и, оживившись, произнес целую речь, которая, казалось, вполне удовлетворила вкус слушателей. Когда он кончил, графиня и Фредерсдорф переглянулись.
Казнохранитель, как и всегда, больше слушал, чем говорил, но, когда графиня де Камас снова намекнула ему, что молодой человек, которому она желает протежировать, нуждается в какой-либо должности при дворе, Фредерсдорф ответил ей вежливо и спокойно:
– Его королевское величество неохотно принимает новых людей; все вакансии заняты, а на военной службе едва ли господин де Симонис захочет закапывать свои способности… Для военной службы нужны больше руки и ноги, чем голова, а я думаю, что голова у этого молодого человека сильнее рук.
Все рассмеялись подобному заключению; казнохранитель задал ему еще несколько вопросов, точно испытывая его, и после часового экзамена вежливо прибавил:
– Желаю вам от души блестящей карьеры… и надеюсь, даже предсказываю, что она у вас впереди… Однако прошу не побрезговать и советом человека, старшего вас летами…
Причем казнохранитель замялся и потом медленно продолжал:
– Есть счастливцы, которые приближаются ко двору и сами делаются высокопоставленными лицами; но каждый из них должен принять за правило молчание и сдержанность: это может больше сделать, чем остроумие и болтливость… Многих вещей нужно даже совсем не понимать, а тем более не говорить о них при посторонних.
Затем он быстро встал, посмотрел на часы, и хотя в этот момент лакей вносил закуску, фрукты, вино и пирожные, он отказался от них и вышел из зала. Графиня что-то сказала ему на ухо и, проводив его до передней, там еще беседовала с ним почти четверть часа.
Оставшись один, Симонис совсем упал духом: он никак не ожидал подобного результата от своего красноречия. В ожидании графини он смотрел на бутылку с вином, обдумывая свое положение.
Наконец, графиня вернулась быстрыми шагами, взглянула на него, приглашая взглядом придвинуться к столу и, вздохнув, налила рюмку вина и начала разговор.
Сначала Симонис, потерявший всякую надежду, рассеянно слушал ее, но затем, вслушавшись, навострил уши: ее слова заинтересовали его.
– Теперь, кажется, все достаточно узнали наш двор, – тихо сказала графиня, меряя его глазами, – и знают, как труден доступ к нему… Отчего бы вам не поискать счастия в другом месте?.. – колеблясь, прибавила она.
Эти слова точно мечом пронзили молодого мечтателя. Иначе говоря, она советовала ему убираться вон! Того ли он ждал, торопясь к графине? Как будто его затем и звали, чтобы дать подобный совет!
Графиня заметила, какое впечатление произвели ее слова, и постаралась стушевать их.
– Дело в том, – снова начала она, – что если бы вы, несмотря на свои лета, были сдержаннее, то вы могли бы быть нам, и даже королю, полезны, находясь при другом дворе.
Макс покраснел, как вишня, и чуть не вскочил с своего стула; он даже выронил из рук шляпу, так как ему сейчас же хотелось сказать, что он готов на все и чтоб им распоряжались по своему усмотрению, лишь бы он достигнул желанной цели, но графиня перебила его и поспешно прибавила:
– Послушайте, господин де Симонис; мне самой хочется сделать что-нибудь для вас, потому что я интересуюсь вашей судьбой… И я уже кое-что придумала… на собственный риск… да, на собственный, никем не прошенная… из одного расположения к вам… только надо быть осторожным… Выслушайте меня…
Она придвинулась к нему ближе, взяла с тарелки белой сморщенной рукой грушу и, играя ею, продолжала, понизив голос:
– Мне сейчас пришло это в голову: почему бы вам не поехать в Дрезден? Там, – я знаю это наверное, – этот бессовестный Брюль и его единомышленники затевают против нас измену. Король стреляет в собак и курит трубку, а его министры распоряжаются им. Королева Жозефина ненавидит нас… А вы теперь свободны и можете поехать туда, кое с кем познакомиться, понравиться госпоже Брюль, которая любит молодежь, хотя сама давно утратила молодость… Вы многое могли бы там узнать и донести мне, и я могла бы, при случае, прочесть королю одно из ваших писем. Почем знать? Этим путем можно многого достигнуть!
Высказав эти слова и высыпав их быстро, как из мешка, графиня опять устремила свои черные глаза на молодого человека, как бы желая разгадать, какое впечатление произвело ее предложение. Лицо Макса горело, глаза блестели, и губы дрожали…
Наконец, когда он получил возможность говорить, он сложил руки, как для молитвы, и с жаром воскликнул:
– О сударыня, умоляю вас, приказывайте, направляйте и требуйте все, что угодно; я все исполню без малейшего рассуждения!
И ловкий юноша после такого восклицания сейчас же изменил свой голос и сентиментально продолжал:
– Я сирота, один на свете, не имею ни покровителя, никого, кто бы мог руководить мною в тяжелые минуты, поддержать меня… я очень рад отдать себя в ваше распоряжение, графиня. Я должен трудиться для моей будущности, работать на себя и пробивать себе дорогу… Подайте же руку помощи сироте…
При этом он склонил голову. Экономка улыбнулась, но в этой улыбке можно было заметить что-то странное, загадочное, сострадательное.
Она вздохнула и после маленькой паузы снова продолжала:
– Ну, как же вы думаете? Принимаете мое предложение? Поедете в Дрезден?
– Хоть на край света! – ответил Макс, но не успел он сказать этих слов, как какая-то мысль, должно быть, испугала его и он сразу побледнел и замолк.
Он вспомнил о своих финансах, которые у него были в самом скверном положении и на исходе. Ему вспомнились и расходы при дрезденском дворе, где без известного шика нельзя было не только показаться, а тем более, без денег, играть какую-нибудь роль.
Графиня де Камас, по-видимому, поняла его мысль и сейчас же заговорила, не спуская с него глаз.
– Так как вы хотите, чтобы я была вашей опекуншей, то вы должны быть со мною откровенным и искренним. Насколько мне известно, вы уже давно живете в Берлине, и хотя я знаю, вы не тратили деньги попусту, но молодость имеет свои права и потребности. Из дому вы, наверное, не могли взять много. Поэтому… пока ваши дела поправятся, я могу вам помочь, если вы нуждаетесь.
Макс торопливо поцеловал ее руку; он не хотел с первого раза возбуждать такой щекотливый вопрос.
– Что же касается саксонского двора, – прибавила она, – то, если вы согласны ехать туда, я вас снабжу необходимыми сведениями и инструкциями. У вас есть там знакомые?
– К сожалению, никого!
– Тем лучше, – сказала графиня, – тем лучше. Я могу вам дать письма к двум лицам: или к вашему соотечественнику старику Бегуелину, или к посланнику Аммону.
При последних словах Макс вздрогнул, лицо его вспыхнуло, и он пришел в замешательство.
– О, только не к Аммону! – воскликнул он. – Так как вы сказали, что я должен быть откровенным, то я ничего не стану скрывать от вас. Аммон – мой близкий родственник. Приехав сюда, я, прежде всего, обратился к нему, но он безжалостно отказался мне помочь. Я не хочу быть гордым, но раз он мне отказал, то и я не хочу его знать.
Графиня де Камас улыбнулась.
– Если так, то вам нет надобности встречаться с ним, – сказала она. – Бегуелин – швейцарец, и он вас примет с распростертыми объятиями при моей рекомендации. По крайней мере, никто не станет удивляться, что вы, как два соотечественника, будете жить вместе. Бегуелин хоть стар и тяжел на подъем, но он отлично знает страну и может быть вам очень полезен…
Разговор о Саксонии длился еще некоторое время; графиня дала ему еще несколько советов, видимо, принимая в нем горячее участие…
Было уже довольно поздно, и графиня, как будто ей пришла новая мысль, вдруг ударила рукой по столу и воскликнула:
– Ба!.. Хоть вы случайно познакомились с Фредерсдорфом, но все-таки вежливость требует сделать ему визит в Сан-Суси. Хотя он человек незначительный, но он много может сделать, и знакомство с ним может быть вам очень полезно… Да, верьте мне.
– А как я попаду к нему? – шепотом спросил Симонис.
– Ну, об этом не беспокойтесь… нет ничего легче, – сказала графиня де Камас. – В известные часы сад всегда открыт, пройдитесь по нему, полюбуйтесь статуями, и наверное, если не встретитесь с самим Фредерсдорфом, то узнаете, где он живет. Если он не будет у короля, то, наверное, примет вас… Итак, завтра утром отправляйтесь в Сан-Суси, – этого нельзя откладывать, – а затем я вас буду ждать, чтобы снабдить вас нужными инструкциями в Дрезден.
Графиня встала; молодой человек вскочил с своего стула и, поцеловав руку покровительнице, на цыпочках, с полным почтением, удалился из комнаты.
На дворе было душно; ночь была темная, и тучи пробегали по небу. Время от времени сверкала молния, освещая пустую улицу; вскоре начали падать крупные капли дождя. Симонис заметил, что его новому фраку и парику угрожала большая опасность, поэтому пустился бежать. И не успел он еще переступить порога своей комнаты, как дождь превратился в большой ливень.
IIСимонис не знал Фридриха, иначе он сразу догадался бы, что графиня посылает его в Дрезден не ради своего удовольствия.
Не обличая чужих слабостей, сам Фридрих не был разборчив в политике; а раз он задавался какой-нибудь целью, то уже не обращал никакого внимания на то, что скажут другие, так же как и не старался оправдывать своих поступков ссылкой на чужие промахи.
В настоящее время Симонис стоял на совершенно нейтральной почве и готов был с каждым, без разбору, заключить союз, хотя бы даже против своих родных братьев, лишь бы достигнуть цели. К счастью, у него не было братьев. Вчерашний вечер привел его в такое возбужденное состояние, что несмотря на несколько стаканов холодной воды, выпитых им для успокоения разыгравшихся нервов, он почти не сомкнул глаз во всю ночь. В Сан-Суси день начинался с четырех часов утра, так как Фридрих вставал очень рано; этому примеру, конечно, должны были следовать окружающие его и весь двор. Следовательно, чтобы представиться Фредерсдорфу, нужно было попасть очень рано в Сан-Суси.
К счастью для Симониса, несмотря на ночную бурю, которая хоть была очень сильна, но продолжалась недолго, к утру небо прояснилось, тучи рассеялись, воздух был свеж; можно было надеяться на прелестную погоду.
Хотя Макс не спал всю ночь, но он чувствовал себя совершенно бодрым и, встав еще до рассвета, занялся своим туалетом. В доме царствовала полнейшая тишина. Все еще спали; хозяева не привыкли видеть, чтобы молодой человек вставал так рано, но услышав движение в комнате Макса еще до рассвета, были очень удивлены и, в свою очередь, раньше обыкновенного, покинули свои постели.
В городе тоже было тихо, и только изредка доносился скрип деревенской телеги, везущей в город провизию.
Макс открыл окно и начал одеваться. Он благословлял судьбу, что вчерашний дождь не повредил его фрак. Если бы он вышел от графини десятью минутами позже, то, наверное, лишился бы как фрака, так и франтовского парика, а главное, шляпы, которая пала бы под ударами стихии.
Судьба положительно благоприятствовала ему; наступал перелом, и богиня фортуны, стоявшая к нему до тех пор спиной, обернулась с улыбающимся лицом.
Солнце только еще всходило, а юноша совсем был уже готов в путь, который ему приходилось совершать пешком. Посмотревшись в зеркало, он остался вполне доволен собою и, ловко повернувшись на одном каблуке, собирался уже уйти.
Вдруг совершенно неожиданно он увидел перед собой Шарлоту с распущенными, вьющимися черными волосами; еще после сна румянец не успел сойти с ее детского лица, и она свежая, красивая и кругленькая, как вишня, загородила ему дорогу. После вчерашнего поцелуя она сделалась смелее и обращалась с юношей, точно имея на него какие-то права.
Она взглянула ему прямо в глаза и спросила:
– Ого! Куда же это вы так рано и таким франтом? Что это значит?
Макс ласково улыбнулся, но обратился к ней свысока, покровительственным тоном:
– По своим делам, милая Шарлота!.. Скажите вашей уважаемой мамаше, что я, вероятно, не буду сегодня обедать… потому что занят делами…
Шарлота только головой покачала.
– Как вы теперь важничаете, – ответила она, – после того, как вас пригласила к себе графиня де Камас!
И, видя, что он хочет пройти, снова загородила ему дорогу и с нетерпением спросила:
– Но куда же вы это, куда?
Вспомнив вчерашнее наставление казнохранителя относительно излишней болтливости, он решил, что не следует выдавать себя перед ребенком, и поэтому спокойно ответил:
– Я приглашен на раннюю прогулку… прощайте…
Шарлота думала, что хоть бы для устранения ее с дороги он, по крайней мере, заключит ее в свои объятия и поцелует, как вчера, но Симонис был слишком занят в этот день собой, поэтому только поклонился и, улыбаясь, проскользнул к лестнице. Опечаленная девочка осталась наверху.
Спустя минуту он был уже на улице и старался осторожно обойти лужи, заботясь о сохранении в чистоте своей обуви.
Обладая молодыми и сильными ногами легче всего было дойти до Сан-Суси, нежели попасть туда. Ввиду этого он заблаговременно обдумывал, как половчее прийти в сад, поближе подойти к дворцу и сколько времени ему придется гулять по пустым аллеям, пока представится возможность встретиться с Фредерсдорфом или пройти к нему на квартиру.
В продолжение всего года Макс безуспешно старался завязать знакомство с придворными. Фридрих II не любил, чтобы его чиновники или военные имели какие-нибудь сношения с иностранными дипломатами, как не любил и того, чтобы окружающие его сближались вообще с иностранцами. Он никому не доверял и всех подозревал в шпионстве. Все придворные должны были сторониться от вновь прибывающих. Каждое утро из Берлина привозили полный список всех новоприбывших в город с обозначением причины их приезда и фамилий тех, которые желали представиться ко двору. Одних принимали, другим отказывали, а когда Фридрих II бывал не в духе, то принятые гости зачастую жалели о своем визите, так как король, находясь в таком состоянии, бывал невежлив и даже груб. Только смелый и остроумный ответ мог иногда расположить его.
Однажды, когда в первый раз ему представлялся знаменитый маркиз Люкзини, которого рекомендовал ему князь Фонтана, король, остро посмотрев на него, спросил:
– Много ли вас таких итальянских маркизов шляется по всему свету, которые служат шпионами при дворах?
Маркиз не потерялся и смело ответил:
– Ваше величество! Нас столько же, сколько глупых владетельных особ, которые задают нам подобные вопросы.
Остроумие обезоружило Фридриха, и он боялся этого меча.
Симонис старался припомнить всех своих «шапочных» знакомых, способных оказать ему какую-нибудь услугу, и он вспомнил о королевском паже, Христиане Эрнесте Мальшицком, добром малом, с которым он познакомился в Берлине несколько недель тому назад; его размышления были прерваны шумом колес, и, обернувшись, он узнал совершенно неожиданно человека, хорошо ему знакомого.
Это был фурьер короля, приятель кондитера, тоже швейцарец; он вез какие-то пирожные и съестные припасы. Его звали Юрли; его красный, как у индюка, нос доказывал тесную связь, существовавшую между ним и стаканом.
Юрли был в самом веселом расположении духа; подбоченившись, он курил трубку и по временам как будто напевал какую-то песенку; для соблюдения такта он стучал ногой по сундуку, на котором сидел.
– А!.. Куда это вы, господин барон? – воскликнул он, поднося руку к шапке.
Максу было стыдно, что он шел пешком; он хотел объяснить это утренней прогулкой, но костюм выдавал его, а потому он предпочел признаться, что идет к своему приятелю в Сан-Суси.
Услышав это, Юрли остановил своего кучера.
– Пешком в Сан-Суси и в таком наряде? – спросил он, покачивая головой. – Если бы вам не было стыдно, то я предложил бы вам место рядом с собой… Теперь по дороге мы не встретим ни одной живой души… Садитесь. По крайней мере вы не так устанете.
Предложение было соблазнительно, и Симонис воспользовался им, поверив Юрли, что тот высадит его далеко от замка. Он сел рядом с ним на сундуке, и кони поехали… Симонису повезло, так как Юрли объяснил ему, через какие ворота можно войти в сад, по каким аллеям следует гулять и где вернее можно встретиться с Фредерсдорфом.
– Однако я посоветовал бы вам постараться избежать встречи с его величеством, так как он очень редко бывает в хорошем расположении духа и всегда имеет при себе палку. Но в этот час, – прибавил он успокоительно, – едва ли вы встретитесь с ним… зато будете иметь удовольствие видеть всех его собак.
По всему видно было, что Юрли в ударе.
– Э, – сказал он, – если бы я не был Юрли, то, сказать по правде, я бы очень хотел быть одной из королевских собак! Это счастливейшие животные, имеют свой двор, получают по два талера в день и спят на атласных подушках; Алькмена по большей части на коленях у короля, и он ее никогда не тронет своей палкой. Утром пажи выводят их в сад на прогулку… и если вы там с ними встретитесь, то издали поклонитесь им… не помешает обратиться к ним за протекцией. Да, кроме шуток! На кого Алькмена заворчит, тому король никогда не станет доверять, а к кому она будет ласковее, то это самая лучшая для него рекомендация.
Таким образом они доехали до Сан-Суси; Симонис слез с телеги и поблагодарил любезного Юрли, который долго еще провожал его глазами.
Отворив ворота, Макс вошел в боковую аллею и издали посматривал с бьющимся сердцем на маленький дворец Сан-Суси. Он не предполагал, что это посещение скоро увенчается успехом, а потому уселся на каменной скамейке; но так как он всю ночь не спал и к тому же не завтракал, то его начало клонить ко сну и он время от времени сильно зевал. Может быть, он поддался бы этому чувству и вздремнул, но вскоре он увидел пажеский мундир и, к большой радости, узнал в этом паже своего знакомого – Мальшицкого.