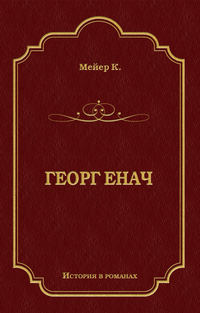
Георг Енач
– Презренные изменники! – гневно воскликнул Енач. – Они одни виноваты во всех наших несчастьях и должны искупить вину за все бедствия, в которые втянули нас… Они первые стали подлизываться к Испании… Прошу тебя, Генрих, ни слова в их защиту!
Но Вазер, задетый этой властной вспышкой, уступил недоброму желанию в свою очередь уязвить приятеля и напомнил ему:
– А викарий Николай Руска? Его все единодушно считали ни в чем не повинным…
– Да, и это правда, – прошептал Енач. Это было для него, очевидно, тягостное воспоминание. Глаза его потемнели и недвижно глядели в пространство.
Вазер молчал, озадаченный этой неожиданной откровенностью.
– Он умер, говорят, под пыткой с прокушенным языком, – добавил он с тихим укором.
– Я хотел его спасти, – прерывающимся голосом заговорил Енач. – Мог ли я думать, что он так малодушен: первых же минут пытки не перенес… У него было много личных врагов… Необходимо было унять всеобщее возбуждение против римских святошей какой-нибудь жертвой… И надо было припугнуть наших католиков здесь, в Вальтеллине. Свершилось по писаному: погиб один и смертью своей предотвратил гибель многих…
И, словно желая стряхнуть с себя тягостные воспоминания, Енач встал, выпрямился и увел друга из темневшего сада в дом. За каменной оградой видна была стройная церковная башенка, позолоченная последними закатными лучами.
– У этого несчастного и теперь еще много почитателей, – добавил он, указывая на церковь. – В этой церкви он тридцать лет тому назад служил первую обедню…
В первой большой комнате, выходившей в сад, горела лампа. Когда они входили в дом, молодая женщина стояла у противоположной двери с подругой, которая, очевидно, вызвала ее наружу и о чем-то рассказывала ей возбужденным шепотом. За ними на сумеречной улице бегали люди, и слышен был глухой гул голосов, среди которых отчетливо выделялся крик старой женщины:
– Люция! Люция! Какое страшное чудо Божие!
Для Енача такие сцены, очевидно, не были новостью. Когда он переступал порог вслед за своим гостем, молодая женщина подбежала к нему и испуганно схватила его за рукав. Вазер заметил, что она была смертельно бледна.
– Пойди на кухню, дитя, и приготовь нам ужин, – ласково сказал Енач. – Покажи нашему гостю, какая ты у меня искусница… – И с принужденной улыбкой обернулся к Вазеру: – Все это нелепые итальянские фантазии! Уверяют, что покойный викарий Руска служит сейчас вечерню в церкви… Надо пойти и доказать им, что это вздорная выдумка, а не чудо… Пойдем, Вазер!
У Вазера мурашки забегали по спине, но любопытство взяло верх над смутной тревогой.
– Пойдем! – бодро сказал он.
Но когда они пробирались сквозь густую толпу, стремившуюся к церкви, он спросил шепотом:
– Но ты уверен, что викария нет больше в живых?
– Черт возьми! – ответил молодой пастор. – Я был при том, как его потащили на виселицу…
Они вошли в церковь. Главная часть церкви была уже приспособлена для протестантской службы. Ряды скамей, каменная купель и простой, без всяких украшений амвон. Образа и статуи святых вынесены были отсюда в отгороженный дощатой перегородкой придел, предоставленный католикам.
В узкое полукруглое боковое окно струился сумеречный свет. Но густая толпа мешала Еначу и Вазеру разглядеть сразу алтарь с серебряным распятием. Перед ними темнело море голов – женщины, старики, калеки и убогие молились плечом к плечу, вздыхая и всхлипывая, мужчины напряженно вытягивали вперед длинные жилистые шеи и судорожно прижимали к груди войлочные шляпы.
На алтаре горели две свечи, и свет их боролся с последними отблесками вечерней зари. Оба огонька колыхались в сквозных струях воздуха, и над алтарем в странной пляске метались уродливые тени. Ветерок с легким шорохом бегал по тускло блестевшим складкам покрывала на алтаре. В этом фантастическом освещении, под гулкими, мрачными сводами, возбужденным, взвинченным людям легко могло примерещиться на ступенях алтаря белое одеяние коленопреклоненного человека.
Енач проталкивался со своим другом вперед, сквозь плотную толпу. Одни, погруженные в благоговейный экстаз, едва обратили на них внимание, другие провожали их злобными, враждебными взглядами и шепотом проклятий, но никто дороги им не преграждал.
Наконец Енач встал во весь свой богатырский рост на виду у всех перед самым алтарем. И тотчас его окружила толпа со зверскими лицами, словно хотела защитить алтарь от святотатственного покушения. Вазер заметил и несколько сверкающих кинжалов.
– Это что еще за наваждение? – громовым голосом крикнул Енач. – Пустите, я должен рассеять его!
– Богохульство! – глухо прокатилось по тесным рядам.
Два человека схватили его за протянутую вперед правую руку, другие надвигались на него сзади. Но Енач мощным движением вырвал руку и бросил человека, ставшего перед ним вплотную, на ступени алтаря. Человек упал головой в складки покрывала, босые ноги его вскинулись над толпой.
Задрожали подсвечники и паникадила, поднялся оглушительный долгий вой и плач.
Эта минута всеобщего смятения и спасла пастора. Он мгновенно прорвался сквозь сбившуюся, растерянную толпу, увлекая за собою Вазера, проник в открытую ризницу, оттуда выбежал на улицу и быстрыми шагами направился к своему дому.
Заложив дверь на засов, он крикнул в кухню:
– Ну, Люция, подавай!..
Вазер стряхнул с себя пыль и оправил манжеты и съехавший в сторону воротник.
– Поповские плутни, – сказал он, заботливо приводя в порядок свой костюм.
– Возможно… Но возможно также, что попы здесь ни при чем. Быть может, им действительно привиделось что-то… какой-то призрак… Ты себе представить не можешь, в какой душной мгле суеверий и предрассудков коснеют здесь люди! А жаль их… народ здесь вовсе недурной… В верхней Вальтеллине и совсем толковый, здоровый духом народ, совсем не то, что эти желтые кретины…
– Не лучше ли было бы, если бы вы им предоставили кое-какую самодеятельность и свободу? – заметил Вазер.
– Да я рад был бы дать им полную свободу, Генрих! Я демократ, ты это знаешь… Но надо знать этот народ! Вальтеллинцы – ревностные католики. Дай им свободу, и они вмиг превратят Граубюнден в католическую страну…
Прелестная Люция, побледневшая и осунувшаяся за это короткое время, принесла традиционное в Вальтеллине блюдо ризотто, и молодой пастор налил вина в стаканы.
– За успехи протестантов в Богемии, – сказал он, чокаясь с Вазером. – Жаль, что ты отказался от своего намерения поехать в Прагу. Кто знает, что там делается теперь?..
– Быть может, лучше, что я сейчас здесь, подле тебя… Я не вполне верю последним известиям и сомневаюсь в том, что пфальцграф сумеет править конем, на которого ему удалось взобраться… Неужели ты придаешь такое большое значение вашему союзу с Богемией?
– К сожалению, нет… Туда, правда, отправились несколько человек, но вовсе не те, кто мог бы сослужить нам ценную службу…
– Для этого все-таки нужно было немало отваги…
– Нисколько… Кто не рискует, не выигрывает… Правительство наше жалкое, нерешительное, дальше полумер оно никогда не идет. И все же мы сожгли за собой корабли. С Испанией мы почти порвали и резко отклонили посредничество Франции… Мы рассчитываем теперь только на свои собственные силы… Через каких-нибудь две недели испанцы могут ворваться сюда из Фуэнте, но – ты не поверишь, Вазер! – до сих пор ничего не сделано для предотвращения возможного нападения. Вырыли кое-где жалкие окопы да призвали два отряда… Сегодня они в сборе, а завтра взбрело в голову – и разбежались во все стороны… Никакой военной дисциплины, ни денег, никакого плана действий… Меня позаботились устранить от всякого влияния на общественные дела. Я, мол, проявлял решимость и самовластие, неподобающие моей молодости и моему сану… И меня заперли в этой глуши… А почтеннейший синод советует мне призывать население к миру и порядку – это теперь-то, когда над моей родиной кружат испанские хищники! С ума можно от этого сойти!.. С каждым днем признаков того, что здесь, в Вальтеллине, готовится заговор, все больше и больше… Я не могу больше мириться с этим! Завтра же поеду на разведку в Фуэнте, и ты со мной поедешь. Вот и предлог у меня будет! А послезавтра отправимся к граубюнденскому наместнику в Сондрио. Он только и делает, что наживается за счет этой богатой страны, которая завтра может ускользнуть из наших рук. Пиявка жалкая!.. Но я теперь насяду на него и постараюсь уж расшевелить его… И ты мне поможешь, Вазер…
– Да, и я тоже по дороге почуял, что в Граубюндене что-то готовится, – таинственно и медленно заговорил Вазер.
– И только теперь ты мне сообщаешь об этом? – резко и взволнованно бросил ему Енач. – Сейчас же расскажи мне все и по порядку… Ты что-то слышал? Где? От кого? Что именно?
Вазер быстро восстановил в памяти все свои дорожные впечатления, для того чтобы изложить их своему пылкому другу в стройной последовательности.
– В гостинице в Малойе… – осторожно начал он.
– Хозяин Скани, ломбардец, стало быть, заодно с испанцами… Дальше!
– Я слышал, правда в полудреме, разговор рядом с комнаткой, где я спал… Кажется, речь шла о тебе… Кто такой Робустелли?
– Яков Робустелли из Грозотто – отъявленный негодяй, мерзавец, разбогател на перекупке хлеба, а благодаря покровительству испанцев возведен в дворянское достоинство. Укрыватель и собутыльник всех шулеров и разбойников, человек, способный на какое угодно преступление и предательство.
– Этот Робустелли, – продолжал Вазер, подчеркивая каждое слово, – если я только не ослышался, замышляет убить тебя…
– Весьма возможно… но не это важно… А кто это был там с ним?
– Я не расслышал его имени, – ответил Вазер, считавший своим долгом хранить тайну Помпеуса Планта, но, встретив угрожающий взгляд Енача, чистосердечно добавил: – Да если бы и знал его имя, то не стал бы его называть…
– Ты его знаешь? Скажи!.. – страстно и настойчиво потребовал Енач.
– Георг, ты меня знаешь… Знаешь, что я никакого насилия над собою не признаю и не позволю… – холодно возразил ему Вазер.
Тогда Енач ласково положил на его плечо свою могучую руку и заговорил нежно и тепло:
– Будь откровенен со мной, дорогой мой… Ты ко мне несправедлив. Я забочусь не о себе, а о бесценной для меня родине. Кто знает, быть может, от одного твоего слова зависит мое спасение и спасение тысяч людей…
– Но в данном случае молчание – вопрос чести!.. – ответил Вазер, стараясь высвободиться из крепких объятий.
Лицо Енача вспыхнуло мрачным огнем.
– Клянусь Богом, – воскликнул он, прижимая к себе друга, – если ты не скажешь мне все, что знаешь, я тебя задушу!..
Испуганный гость молчал. Енач схватил нож, которым нарезал хлеб, и приставил его к шее Вазера. Вазер и теперь, вероятно, молчал бы, потому что был глубоко возмущен, но, отстраняя руку Енача, он сделал неосторожное движение, и острие ножа скользнуло по его шее. Он почувствовал жуткую теплоту крови, несколько капелек окрасили его белый воротник.
– Оставь меня, Георг! – сказал он, слегка побледнев. – Пусти, я тебе что-то покажу…
Он вынул из кармана чистый платок, осторожно стер с шеи кровь, затем достал свою записную книжку, раскрыл ее на странице с зарисованными древними колоннами и положил ее на стол. Енач быстро схватил ее. Взгляд его тотчас остановился на вписанных Лукрецией словах. Он опустил голову и погрузился в тяжкое, мрачное раздумье…
Вазер молча наблюдал за ним. Он испугался в душе впечатления, произведенного на Енача вестью от Лукреции, невольным носителем которой он явился. Он и не подозревал, как быстро учел этот проницательный человек все, что узнал от него, и как горько и беспощадно связал все подробности в одно целое. Самые разнородные чувства отражались на его лице – скорбь и гнев, теплые воспоминания и твердая решимость быстро сменяли друг друга.
– Бедная Лукреция! – промолвил он с глубоким вздохом, и вслед за тем лицо его застыло, потемнело и стало непроницаемым. – Над Юльерским ущельем… Стало быть, отец ее теперь в Граубюндене… Гордый Помпеус Планта, низко же ты упал, с Робустелли связался… – почти спокойно проговорил он. И неожиданно сорвался с места. – Я – невозможный человек, не правда ли, Вазер?.. Ты и в школе немало натерпелся из-за моей горячности… Я и теперь еще не умею владеть собою… Ложись спать и забудь обо всем, что сейчас произошло! Завтра чуть свет мы двинемся на двух великолепных мулах в Фуэнте, и ты увидишь, что я все тот же хороший товарищ, каким был. А по дороге потолкуем по душам.
VВазер проснулся еще до восхода солнца. Когда он с усилием открывал окно, перед которым пышно и густо разрослось фиговое дерево, в нем боролись два желания. Накануне он решил, что немедленно, на следующее же утро, уйдет из дома своего друга детства и ближайшим путем через Киавенну выберется из этой слишком уже романтической Вальтеллины. Но крепкий живительный сон несколько смягчил тягостные вчерашние впечатления и ослабил его решимость. Взяла верх любовь к этому удивительному другу. Он говорил себе, что нельзя пенять на этого страстного человека, не получившего тщательного воспитания, не имевшего лоска городской культуры, за его несдержанность, когда его собственная жизнь и родина в опасности. Разве для него новость эта быстрая смена настроений и эти дикие, безумные вспышки? Одно было для него несомненно: внезапным отъездом он не предотвратит несчастья, и причиной этого несчастья, быть может, будут его полупризнания, вырванные у него Георгом. Если же он останется, то обо всем обстоятельно расскажет ему и узнает, отчего так обострились отношения между Еначем и отцом Лукреции. И тогда возможно будет предпринять что-нибудь, чтобы примирить их.
По дороге в Фуэнте у них завязался задушевный разговор. Енач ни словом не коснулся вчерашней вспышки и был ясен и весел, как это чудесное утро. Он совершенно спокойно – Вазеру показалось, даже с легкомысленной несерьезностью – выслушал подробный рассказ о его путешествии и охотно отвечал на все его вопросы. Но Вазер, вопреки своим ожиданиям, узнал от него немного.
Последний университетский год, рассказывал Енач, он провел в Базеле, а затем вернулся домой в Домшлег. Там он застал отца на смертном одре. После смерти старика жители Шаранса единодушно выбрали его в пасторы, хотя ему было тогда всего восемнадцать лет…
В Ридберге он был один только раз, причем, конечно, сцепился с Помпеусом по поводу политических вопросов, и они горячо поспорили. Ничего личного в споре этом не было, но оба почувствовали, что дальнейших встреч лучше избегать. Когда начались первые вспышки недовольства против Планта, он успокаивал народ с амвона. Он еще думал тогда, что лица духовного звания не должны вмешиваться в политику. Но смута усиливалась, опасность росла, а у государственного руля не было надежного лоцмана, и жалость к людям взяла в нем верх над всеми другими чувствами и соображениями. Пресловутый суд в Тузисе он считал кровавой необходимостью, содействовал образованию этого народного судилища и даже указывал ему на его очередные задачи. Осуждению же Планта он ни содействовал, ни препятствовал – то был единодушный вопль возмущения всего населения.
Разговор перешел на политические вопросы, хотя Вазер и пытался было перевести его на личную жизнь Енача. Его ошеломлял и возмущал подход Енача к задачам европейской государственной науки, которую он сам долго и ревностно изучал. Его пугала дерзость и легкость, с которой Георг решал самые сложные вопросы. Решение этих вопросов он считал очень трудной, сложной задачей, торжеством дипломатии, предполагающих много усилий. За все время этого оживленного спора ему один только раз удалось вставить робкий вопрос: жила ли в Ридберге Лукреция, когда в Домшлеге начались смуты? Лицо Георга мгновенно потемнело, как накануне ночью, и он коротко ответил:
– Да… только в самом начале… Ей было, бедной, очень тяжело… Это преданное, верное сердце… Но не мог же я связать себя с ребенком… да еще с дочерью Планта! Все это вздор, пустые бредни… Ты видишь, я сумел положить этому конец…
Он яростно пришпорил своего мула, и испуганное животное унесло его вперед. Вазер с трудом сдержал своего мула.
В Арденнеони остановились у домика пастора, но двери оказались запертыми на ключ. Блазиуса Александра не было дома. Енач, бывший здесь, по-видимому, своим человеком, обошел дряхлый домик, нашел ключ в дупле старого грушевого дерева и вошел вместе с Вазером в комнату Александра. Окна выходили в густой, запущенный сад, и в комнате стоял зеленовато-сумрачный свет. Кроме длинной скамьи вдоль стены и источенного червями стола, на котором лежала большая Библия, в комнате другой мебели не было.
Недалеко от этого духовного оружия выглядывало из угла и мирское – старинный мушкет, над которым Енач повесил привезенную Вазером пороховницу. Затем, вырвав листок бумаги из записной книжки Вазера, Георг написал: «Благочестивый цюрихский гражданин ждет тебя сегодня вечером у меня. Приходи и укрепи его в вере». Записку он вложил в Библию, раскрытую на книге о Маккавеях.
Солнце уже знойно горело, когда Енач показал своему спутнику на грозный силуэт крепости, поднимавшейся из широко раскинувшейся долины Адды, – чудовище, как он называл ее, протягивавшее одну руку к Киавенне, а другую – к Вальтеллине. На дороге за холмами стлалось длинное облако пыли. Острые глаза горца разглядели длинный обоз, из чего он вывел заключение, что Фуэнте снабжается провиантом и готовится, по-видимому, к продолжительной осаде. А между тем в Граубюндене говорили, что свирепствовавшая там болотная лихорадка унесла добрую половину гарнизона и что испанцы считают пребывание в крепости равносильным смертному приговору. Слухи эти подтвердил Еначу и один молодой подпоручик, который заболел в крепости. Во избежание бесславного конца он отпросился в отпуск для лечения горным воздухом и провел две недели в Бербенне, где жил Енач. Он привез с собой новую испанскую книгу, чтобы скоротать дни отдыха, такую забавную книгу, что ему совестно было наслаждаться ею одному, и он дал ее почитать и молодому пастору. Енач произвел на него приятное впечатление, и он полагал, что пастор, хорошо владевший испанским языком, сумеет оцепить по достоинству эту веселую книжку, этого восхитительного «Идальго Дон Кихота», – так называлась книга, оставленная в Бербенне офицером. Енач и решил использовать его сегодня как ключ к испанской крепости.
Ворота крепости распахнулись перед первой партией обозных возов, и Енач погнал скорее своего мула, рассчитывая, что теперь им удастся без больших затруднений проникнуть в крепость. Но, подъехав ближе, они увидели перед собою на подъемном мосту испанского офицера, сухого как жердь, с желтым, изможденным лицом: лихорадка оставила на нем одни лишь кости да кожу… Он недоверчиво смерил их обоих глазами, обведенными широкими темными кругами, и на учтивый вопрос Енача о здоровье его молодого приятеля отрывисто бросил:
– Уехал…
Енач стал расспрашивать, куда он уехал, надолго ли, добавив, что привез кое-какие вещи, принадлежащие молодому подпоручику.
Испанец ответил с горечью:
– Он уехал туда, откуда не возвращаются… Можете оставить у себя его вещи как наследство. – И он указал пальцем своей костлявой руки на темные кипарисы лежавшего недалеко кладбища. Затем бросил приказание часовому и повернулся спиной к Еначу и Вазеру.
Енач не мог придумать другого способа проникнуть в строго охранявшуюся крепость и предложил Вазеру поехать дальше к озеру Комо, ласково светившемуся в отдалении. Они скоро подъехали к оживленному берегу северной части озера. С глубокой поверхности, усеянной парусами, повеяло на них живительной прохладой. Маленький залив запружен был судами, которые спешно разгружались в это время. Масло, вино, сырой шелк и другие продукты богатой Ломбардии отправлялись отсюда на возах и мулах через горы в глубь страны. Площадь перед большим каменным заезжим домом своим оглушительным шумом и веселой суетой напоминала ярмарку. Енач и Вазер с трудом пробрались между корзин с большими душистыми персиками и сливами к сводчатым воротам гостиницы. В темном проходе под сводами хозяин, стоя на коленях перед большой винной бочкой, нацеживал красноватое пенившееся вино для обступавших его истомленных жаждой гостей. Енач заглянул в окна и, убедившись, что среди шумевших людей и голодных псов, которые терлись тут же около гостей, им не найти места для отдыха, направился к саду. Это был густой виноградник, огражденный от озера каменной стеной; пышная вьющаяся зелень покрывала ограду. Вода тихо плескалась у стен и полуосыпавшихся каменных ступеней пристани.
Хозяин, окруженный густой толпой крестьян, протягивавших ему свои пустые кувшины, заметив, что Енач направляется в сад, сделал испуганное движение и хотел было остановить его. Но в то же мгновение из сада вышел юноша в одежде чужеземного покроя и, приветливо поклонившись, обратился к Вазеру на изысканном французском языке:
– Мой господин, его светлость герцог Генрих Роган, находящийся здесь проездом в Венецию, увидел из сада, где он сейчас отдыхает, двух подъехавших к гостинице протестантских священников и просит вас, не стесняясь его присутствием, пожаловать в сад, если вам угодно уйти подальше от этого шума.
Вазер, обрадованный этим счастливым случаем и оказанной ему честью, ответил таким же безупречным, но несколько вычурным французским языком, что он и его друг сочтут для себя честью разрешение лично поблагодарить герцога за оказанное им внимание.
Они вошли вслед за шедшим впереди юношей в сад. Южная часть сада выдавалась вперед террасой, висевшей над самым озером. За сквозными зелеными стенами играли пестрые шелковые ткани, и в оживленный женский говор вплетался звонкий, радостный смех ребенка. На бархатных подушках полулежала стройная, бледная женщина. Ее быстрая речь и подвижное лицо говорили о внутренней тревоге, мешавшей ей насладиться освежающим отдыхом. Перед нею семенила ножками и взвизгивала от удовольствия двухлетняя девочка. Миловидная, чистенькая няня держала ребенка за обе ручки. Итальянский мальчик-подросток, робко стоявший в нескольких шагах от террасы, наигрывал на мандолине грустную народную песенку…
Герцог сидел в другом, тихом углу сада, на низкой каменной ограде, о которую плескались голубые волны. На коленях его лежала карта. Он смотрел на нее и недоверчиво сравнивал выведенные на ней линии с заслонявшими горизонт горными громадами.
Вазер с глубоким поклоном представился герцогу и затем представил своего спутника. Глаза Рогана тотчас остановились на лице Енача, неотразимо привлекательном своей дикой, суровой энергией.
– Я решил, судя по вашей одежде, что вы протестантский священник, – сказал он, внимательно разглядывая его. – Но, несмотря на ваши черные глаза и несмотря на то что встретились мы в Италии, вы не итальянец. Очевидно, вы сын близкой отсюда Реции. И я попрошу вас растолковать мне расположение гор, которые я видел вчера, переезжая через Шплюген. По моей карте я ничего не могу… Присядьте подле меня.
Енач с жадным любопытством вгляделся в превосходную карту и тотчас нашел то, что ему нужно было. Несколькими меткими штрихами нарисовал он перед герцогом картину географического положения его страны – хаос долин и ущелий стройно очертил реками, вытекающими из них к трем разным морям. Затем заговорил о бесчисленных горных проходах и, оживляясь, с увлечением и поразительным знанием дела осветил их военное значение.
Герцог с явным благоволением и возрастающим интересом слушал объяснение Енача; потом он задумчиво остановил на нем свои добрые, умные глаза.
– Я солдат и горжусь этим, – заговорил он, – но бывают мгновения, когда я завидую счастью людей, проповедующих «блаженны миротворцы»… В наше время одна и та же рука не может сжимать меч апостола и меч воина. Мы живем уже не в век героев и пророков, господин пастор. Двойные роли Самуила и Гедеона давно уже сыграны… В наше время каждый должен быть верен своему призванию. Я считаю большим бедствием для моей родины, – продолжал он со вздохом, – что наши французские священники-евангелисты не нашли в себе в нужную минуту ни мужества, ни спокойствия и подстрекали народ к гражданской войне. Государственные деятели должны их защищать. Священник же должен заботиться о душах своих прихожан; он легко может стать виновником величайших бедствий…
Енач вспыхнул, нахмурился и ничего не ответил.
В это время подошел паж и почтительно доложил, что барка герцога готова к отплытию. Герцог милостиво распростился с молодыми людьми.
На обратном пути домой Вазер стал распространяться о политической роли герцога, которому его протестантские сограждане обязаны были миром, наступившим наконец после долгих внутренних распрей. По его мнению, нельзя было, однако, рассчитывать на продолжительность этого мира, и он не пожалел красок, чтобы изобразить перед Еначем положение Рогана и французских протестантов в самом безотрадном свете. Самолюбие его задето было тем, что герцог оказал столько внимания Еначу, и тем, что сам он все время оставался в тени, вернее, даже совсем стушевался благодаря присутствию Георга…