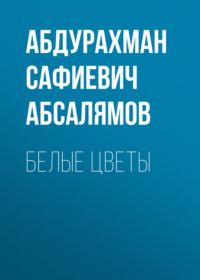
Избранные произведения. Том 1
– Если бы этот начальник оказался действительно порядочным человеком, я бы и слушать не стала тебя. Сама сумела бы потолковать с ним, – не сдавалась Фатихаттай.
Лицо у профессора стало серьёзным.
– Нет, Фатихаттай, не открывай дверь, если даже и заявится этот «Сто Мухаммедов». Моё слово твёрдое.
– Не приказывай мне, пожалуйста! – вскипела Фатихаттай. – Я тебе не врач и не сестра. Фатихаттай – вольный казак.
Абузар Гиреевич от души рассмеялся.
– Ничего смешного, – сурово отпарировала Фатихаттай. – На днях Мадина послала меня по делу к Янгуре. Как вошла к нему в квартиру, чуть не ослепла. Какая мебель! Не то что у нас – развалина на развалине, – у него всё новенькое, полированное, всё сверкает, как зеркало. На такую мебель, думаю, и пыль-то не садится, а сядет – так только опахнуть. А нашу пока протрёшь, пока выскребешь пыль из резьбы – без рук останешься. А книги у них все в застеклённых шкафах. А какие абажуры! Не позеленевшие, с разбитой головкой, как у нас… Скажи, когда мы покупали эту люстру? Тогда и Мансура ещё не было на свете… Стекло, наверно, уже сгнило…
– Стекло, Фатихаттай, не сгниёт и в тысячу лет.
– Разве только булгарское не гниёт, а о другом – не скажу, – не сдавалась Фатихаттай. Лет десять тому назад она ездила смотреть развалины древних булгарских поселений и привезла оттуда множество стеклянных осколков. – А цветы у Янгуры, – продолжала расписывать Фатихаттай, – не какие-нибудь фикусы-микусы да пальмы, как у нас, а особые, растущие только под стеклянным колпаком. Не изрежешь, не занозишь руки, когда протираешь такие цветы, да и поливать их не надо…
Профессор взглянул на часы.
– Ну, всё, Фатихаттай, сеанс окончен. Спасибо за ужин и за лекцию.
– На здоровье. – Фатихаттай начала собирать посуду, продолжая бормотать: – Был бы начальник порядочный, обязательно прислал бы своего Юзмухаммеда…
12
Далёкое детство каждому человеку заронило в душу какое-нибудь особенное воспоминание, на крайний случай – какое-нибудь любопытное событие или что-то смешное. Эти дорогие сердцу воспоминания долгие годы таятся где-то в закоулках памяти, но однажды, без всякой видимой причины, заставляют человека пробудиться в тихий предрассветный час, вызывают у него сладкие или печальные слёзы. Слёзы эти не жгут сердце, не терзают душу, – наоборот, человек начинает ощущать в себе какую-то лёгкость, чистоту. Ничего у него не болит в эти минуты, ничто не беспокоит, словно и нет вообще у него до крайности исстрадавшегося тела – есть только душа, плывущая куда-то вдаль. Человек погружается в сладкие и чуть грустные думы, продолжает вспоминать, вспоминать – и нет конца-краю этим воспоминаниям. Глаза у человека открыты, в комнате уже совсем светло, но мечтатель ничего не замечает, словно гуляет по какому-то бесконечному прекрасному лугу. Если это происходит в больнице, тяжёлое и тревожное дыхание, стоны больных на соседних койках и слышны ему, и не слышны. В ушах у него другие звуки – чьи-то ласковые речи, нежное, как музыка, журчание ручейка…
Проснувшись сегодня перед рассветом, Галина Петровна испытывала именно такие ощущения и чувства. Если бы сама она не была врачом, радость, возможно, пришла бы к ней пораньше. Но ведь она хорошо знала серьёзность, даже безнадёжность своей болезни и потому, если ей становилось иногда легче, не спешила радоваться, держала свои чувства в крепкой узде, насколько хватало сил. Для врача не секрет: в больнице, под действием тех или иных лекарств, состояние больного очень заметно улучшается, он уже думает, что вот-вот поправится, встанет на ноги, – и тут вдруг болезнь схватит его крепче прежнего, и неотвратимая смерть наконец сделает свое чёрное дело. Кроме того, почти у каждой болезни есть свои скрытые свойства, пока ещё не вполне распознанные медициной. Глядишь, вроде бы наука уже досконально знает природу, тонкости и коварство того или иного недуга и уже открыла средства против всех этих неожиданных поворотов, но всё же случается, что лучшие специалисты-медики оказываются просто бессильными перед той же известной болезнью, потому что она вдруг проявляет себя по-новому.
Врач-практик хорошо знает такие казусы. И не забывает о них, если вдруг сам заболел. И не зря говорят, что лечить больного врача столь же трудно, сколь и легко. Во всяком случае, не сведущие в медицине люди гораздо спокойнее переносят явления тяжёлой болезни, веря во всё, что им скажет врач.
Новый обнадёживающий диагноз профессора Тагирова радостно взволновал Галину Петровну. А потом она почувствовала чудесную силу антибиотиков, и состояние её улучшалось изо дня в день. Сковывавший её душу холодный лёд словно начал таять, и в её груди, где раньше теснились лишь бесконечные тревоги, словно повеяли тёплые вешние ветры, и она затрепетала от радостного ощущения жизни. Уже давно забытые воспоминания снова всколыхнули душу.
В молодости Галина Петровна и не думала, что будет врачом. Ей ни о чём особенно не мечталось. У неё было только два ситцевых платьица, ленточка для кос да дешёвенькие белые тапочки. Что ещё надо шестнадцати-семнадцатилетней деревенской девушке? На столе хлеб, молоко, картошка – поешь досыта и радуешься жизни; захочешь – побежишь на луг собирать цветы. Белым ромашкам счёту нет… Ничто не стесняет её свободу, она как птица на крыльях. Если печёт солнце – пусть печёт, идёт дождь – пусть идёт, бушует буран – пусть себе бушует. Галке не жарко и не холодно, не грустно и нечему особенно радоваться. Заскучает – так побежит к подружкам.
Да, тогда она была ещё не Галиной Петровной, не Галиной, и даже не Галей, а просто Галкой, и это имя необычайно нравилось ей, как сама беззаботная юность.
Именно в эту прекрасную пору тяжело заболела старшая сестра Галки. Это была очень стройная, миловидная и трудолюбивая девушка. В работе ли, в играх ли, в песнях и плясках не только в деревне, во всей округе не было ей равных. И вот эта цветущая девушка начала чахнуть. Вначале судачили, что она сохнет от неразделённой любви, затем стали говорить, что её сглазили, напустили порчу. Галина поверила этим россказням и жила стремлением отомстить кому-то за сестру.
Однажды летом, на рассвете, сестра вдруг разбудила её.
– Галка, Галка, смотри, как прекрасна река! – воскликнула она, глядя в открытое окно.
Галина, раскрыв глаза, тоже взглянула в окно. На берегу, между ивами, плывёт розовато-белый туман. Видны очертания крыльев мельницы на взгорье, на том берегу. Вон конец верхнего крыла вдруг вспыхнул, вон тем же золотистым светом озарилась и крона ветвистого клёна – поднималось солнце, пронизывая туман золотыми лучами. Воздух был тёплым, как парное молоко, и сладким, как мёд.
– Галка, давай искупаемся у плотины, пока никто не встал, – сказала сестра. – Сейчас вода прозрачная… Я видела сон, будто купаюсь у плотины; искупалась – и вдруг ничего у меня не болит, здорова, как прежде.
Сёстры спустились к плотине. И тут же остановились. В кустарнике ошалело свистели соловьи. Эх, и заливались же соловушки! Один другого нежней, один другого страстней.
То ли дорога оказалась не близкой, то ли слишком взволновали соловьи своим пением, но, пока добрались до плотины, больная сестра выбилась из сил. Она опустилась на траву под вязом и горестно сказала:
– Галка, ты уж искупайся одна. А я только погляжу на тебя.
Или слишком наивной была тогда Галка, или хотела сделать что-нибудь доброе для сестры, но взяла да и кинулась в воду. Купаться в тихой и гладкой, как зеркало, в меру прохладной воде – одно удовольствие. Ох и плавала, ох и ныряла, как рыбка, ох и наслаждалась Галина! Не зная предела своей радости, она звонким голосом кричала, звала сестру:
– Как чудесно-о, как хо-рошо-о!.. – и звонкое эхо её голоса отдавалось, будоража тихую заводь.
Выйдя из воды и надев на мокрое тело тонкое платье, Галина, съёжившись, дрожа от утреннего холода, прижалась к сестре. А сестра обняла её и прошептала на ухо:
– Галочка, искупайся ещё разок за меня. Не зря же мне приснился такой чудный сон. А то не пожалеть бы после, что не догадались.
Галка преданно посмотрела в глаза сестре и увидела – её чистые голубые глаза были полны слёз.
– Родная моя! – вскричала Галка. – Да я хоть десять раз искупаюсь, поправляйся только!
Вдруг сестра прильнула к её груди и зарыдала.
– Галка, ты нынче весной кончаешь десятилетку, поступай в медицинский институт, будь доктором… Будешь лечить и меня, и таких, как я, – сказала она, наплакавшись вволю.
В ту минуту сестра не взяла с Галины никакого обета, но Галина уже считала в душе, что поклялась сестре самой святой клятвой выполнить её просьбу. В ту же осень она поступила учиться в медицинский институт. А когда приехала летом на каникулы, сестру уже похоронили…
Сегодня на рассвете Галине Петровне ярко вспомнилось то бело-розовое, туманное утро, соловьи, тихая вода у плотины. И сейчас на какую-то минуту показалось, что сестра ещё жива. Ей стало так приятно, так легко и спокойно. По всему телу, по всем суставам разлилась живительная сила, будто Галина Петровна только что вышла из воды после освежающего купания. Казалось, что если она встанет сейчас, то найдёт силы даже пробежаться. В другое время, стоило ей вспомнить сестру, сердце всегда сжимала тоска, а сегодня тоски нет, только лёгкая, светлая грусть.
Рождался новый день. И чем больше светлело, тем больше назревало в душе Галины Петровны желание встать с постели и поглядеть в окно. По-видимому, это тоже признак выздоровления. Сердце ведь многое предчувствует заранее.
Аксинья Алексеевна, как солнышко ясное, являлась ровно в восемь. Вот и сегодня она в ту же минуту открыла дверь палаты. На улице, видать, довольно холодно – у старухи покраснел кончик носа, из глаз выступили и застряли в морщинках слёзы.
– Вот Фатихаттай с Мадиной Идрисовной прислали тебе клюквенный кисель, очень вкусный, – заговорила она, вынимая из сумки стеклянную банку.
– Спасибо, – поблагодарила Галина Петровна. – Ты, Аксинья Алексеевна, сказала бы им, чтобы не беспокоились так. И без того мы доставили им столько хлопот.
– Людям с доброй душой, Галиночка, и хлопоты – не хлопоты. А человек с мелкой душонкой и от пустяка стонет. – Тётя Аксюша стала засучивать рукава. – Ты ещё не умывалась?
– Я умылась в реке, – улыбнулась Галина Петровна.
Тётя Аксюша посмотрела на неё и сразу засияла.
– То-то, гляжу, щёки у тебя порозовели… Во сне, что ли, видела?
– То ли во сне, то ли наяву – не поняла.
– Значит, тебе захотелось ванны, – заключила тётя Аксюша. – Если Магира Хабировна разрешит, сегодня искупаю.
– Нет, тут другое…
– Другое или нет, а душа с телом едины, Галинушка.
13
После обхода профессора у Чиберкеевой наметилась какая-то перемена. Она уже не раздражалась ежеминутно, как в первые дни, не будоражила всю палату своими страхами и сомнениями, даже плакать стала реже. При входе врачей она уже не вздрагивала, не настораживалась, словно в ожидании страшной беды. Иногда на лице её даже появлялась слабая улыбка. Видя это, радовалась и Магира-ханум. И ко всему – у Анисы наладился сон, а это уже начало всех начал. Конечно, Магира-ханум понимала, что у больной ещё нет твёрдой почвы под ногами, что она продолжает сомневаться, всё ещё думает, что ей не говорят всю правду. И это было отчасти так, но только в другом направлении. Чиберкеева не переставала думать: «Врачи ведь тоже ошибаются. Вон какой страшный диагноз поставили было Галине Петровне в Туле. А со мной может получиться наоборот». И ей казалось, что настоящую правду могут сказать лишь сёстры. Она решила прежде всего поговорить с Диляфруз. Эта девушка выглядит всех добрее. Но Диляфруз на все вопросы Чиберкеевой отвечала одной и той же фразой: «Поговорите с врачом».
– Ходите тут, как овцы, опустив уши! – крикнула раздражённая Чиберкеева и принялась обвинять сестру в бессердечии, даже назвала бессовестной.
Но Диляфруз, сохраняя удивительную выдержку, ответила:
– Неужели вы похвалили бы меня, если бы я своей болтовнёй причинила вам новую боль, Аниса-апа?
– Нет, ты всё знаешь, только тебе не велят говорить… Но я ведь только для себя спрашиваю… Никому слова не скажу, Диляфруз, – вкрадчиво льстилась Чиберкеева.
Но и это не подействовало на Диляфруз. А у других сестёр Чиберкеева и сама не пыталась выведывать, – всё равно не скажут. Может быть, у кого-нибудь из врачей спросить? Есть же среди них жалостливые.
Однажды вечером в их палату зашёл дежурный врач Салах Саматов. Настроение у молодого человека было великолепное. Он шутил, смеялся.
– Салах Саматович, – обратилась Чиберкеева немного наигранно, – вот профессор говорит, что у меня никакой серьёзной болезни нет. Тогда от чего же меня лечат здесь?
– Лечить можно от многого, – в тон ей ответил Саматов и продолжал весело болтать с Асиёй.
Чиберкеева повернулась лицом к стене и притихла. Вскоре послышались её всхлипывания.
– Что вы там сырость разводите! – грубовато сказал Саматов. – Дома, если захотите, плачьте вдоволь, а здесь не беспокойте больных.
Чиберкеева вдруг повернулась к Салаху, её лицо, мокрое от слёз, было перекошено, глаза злые. С горечью и отчаянием она выкрикнула:
– Уходите, уходите отсюда, вы не врач!
Разговор шёл на татарском языке, и Галина Петровна ничего не поняла. А Чиберкеева весь этот вечер пролежала молча. Ночью не спала, на следующий день не только не разговаривала, но и не ела. Не отвечала ни Магире-ханум, ни Диляфруз, подходившим к ней с расспросами, и, не выдержав, обрывала их: «Не травите душу!» Лицо у неё словно окаменело, губы посинели.
Если человек плачет, стонет, ругается, это не очень страшно, потому что таким путём он чего-то добивается, за что-то борется. Но если он целыми днями, не произнося ни слова, молча лежит, глядя в стену, это уже опасно, это значит, что он потерял надежду на лучший исход, что он внутренне надломлен. Не зря медики говорят, что боль, которая не вызывает слёзы на глазах, заставляет плакать душу.
Чиберкеева поднялась с постели только вечером следующего дня. Волосы её растрёпаны, взгляд какой-то странный. Цепляясь за стены, покачиваясь, она вышла из палаты, но вскоре вернулась обратно и опять легла. До рассвета не сомкнула глаз. Она совсем почернела. Встревоженная Магира-ханум вызвала психиатра. Но настоящего разговора, который ободрил бы больную, не получилось и с психиатром.
В воскресенье, уже третий день, Чиберкеева продолжала молчать. Выпала минута, когда в палате остались только Галина Петровна с тётей Аксюшей, и Чиберкеева обратилась к тёте Аксюше:
– Что это за врач была, блондинка, которую приводила Магира? Психиатр, что ли?
Тётя Аксюша принялась осторожно успокаивать её, но Аниса раздражённо крикнула:
– Я теперь никому не верю, они все обманывают меня, они хотят отправить меня в сумасшедший дом, но я не сумасшедшая, нет!
Галина Петровна в свою очередь попыталась утихомирить её, но Аниса, повернувшись к ней, зло сказала:
– Ах, не утешайте, пожалуйста! Вас хоть лечат, а обо мне никто не заботится!
– Те же врачи, Анфисочка, и вас лечат, – вмешалась тётя Аксюша.
– Не говорите пустое! Я не слепая, хорошо вижу, кого и как лечат!..
– У кого душа незрячая, так и глаза ничего не видят, не глаза – дырочки от сучка, – не выдержав, сказала вошедшая в палату Карима.
Чиберкеева, по своему обыкновению, повернулась к стене и замолчала. Днём её навестила какая-то старуха со сморщенным, словно печёное яблоко, лицом. В палате сидела, читая книгу, Асия; увидев неприятную старуху, она вышла.
– Что болит у этой красотки? – спросила старуха, с кислой миной поглядев вслед девушке.
– Ничего не болит, спит себе, как барсук в норе, – ответила Чиберкеева. И, оглядевшись кругом, спросила: – Принесла?
– Как не принести, раз просила. Сама ездила к знахарке в Ягодную. Отказалась было наотрез: «Не дам, говорит, раз она доверилась врачам». Я приврала маленько: «Уже вернулась, говорю, домой». Ты знаешь, наверно, Каусарию – жену Камали из Новой слободки? У неё болезнь была вроде твоей. Ни один врач не мог помочь, сказали, что умрёт. Так вот она всего лишь два раза выпила снадобье этой знахарки и сразу встала на ноги. Сама видела: так поправилась – кровь с молоком. Так вот Каусария просила передать: в первый день, говорит, будет немного тяжело, но пусть потерпит, не страшно.
– Я что, очень исхудала? – с трепетом спросила Аниса.
– Зеркало небось есть у тебя, поглядись, – ответила старуха. – Только Аниса, милая, помни: пей украдкой, чтобы никто не видел. Как говорится, друзья промолчат, а враги скажут. Соседка-то твоя не проболтается?
– Она не знает по-татарски, ничего не поняла.
Но скрыть не удалось. Диляфруз, утром едва открыв дверь палаты, сразу же спросила:
– Чем это воняет? – и начала проверять у всех тумбочки.
Обнаружила у Чиберкеевой пузырёк с тёмной жидкостью, понюхала, сморщилась:
– Откуда у вас этот пузырёк?
Аниса хотела вырвать склянку из рук Диляфруз, но та успела отдёрнуть руку.
Употребление в больнице знахарских снадобий по закону считается чрезвычайным происшествием. И вот поднялся на ноги весь больничный персонал: прибежала встревоженная Магира-ханум, затем – Алексей Лукич. Главврач так рассердился, что приказал сегодня же выписать больную. Крепко досталось от него сёстрам и санитаркам.
Однако выписать Чиберкееву из больницы значило бы заведомо отдать её в руки знахарок, возможно – обречь на гибель. Профессор Тагиров не мог согласиться с Алексеем Лукичом. Строго отчитав и предупредив больную, он уговорил главного врача отменить своё решение.
Михальчук покачал головой:
– Вы, Абузар Гиреевич, зря берёте на себя такую обузу. Если что случится, нас по головке не погладят. А если выпишем, нам никто ничего не скажет. Есть закон…
– Да, никто ничего не скажет, и закон действительно есть, – задумчиво повторил профессор, – но что мы скажем своей совести? Что ответим перед лицом этого наивысшего судьи, Алексей Лукич, если выпишем больную, не вылечив её?
Пока врачи журили Чиберкееву, она молча сидела, опустив глаза. Всем своим видом хотела показать: «Ладно, ругайтесь, мне всё равно». А с Диляфруз совсем перестала разговаривать, лишь однажды ехидно заметила:
– Тебе за твоё шпионство, наверно, медаль дадут.
Диляфруз очень обиделась, но пререкаться не стала, только, зайдя в дежурку, всплакнула.
Прошла неделя. Чиберкеева по-прежнему ни с кем не разговаривала, на вопросы врачей не отвечала, но ела много, и поэтому с виду как будто поправилась. Решив, что это благотворное влияние знахаркинова снадобья, она запросила новую порцию. Поскольку теперь все её передачи проверялись, пузырёк весьма хитроумным способом был передан через другого человека. Ночью, часов в одиннадцать, Чиберкеева вышла в уборную, выпила снадобье, после чего тщательно прополоскала рот, а пузырёк выбросила в форточку. Затем вернулась в палату, легла в постель. Все остальные уже спали.
На улице выл ветер. А в дальнем конце коридора кто-то протяжно стонал, и вся больница словно вздрагивала. Потом в полутёмном коридоре начала маячить взад-вперёд чья-то чёрная скрюченная тень.
Это был Исмагил. Непогодливая ночь для него – сплошная мука. Он каждый раз вот так ходит, пока приступ боли вконец не свалит его с ног. Халат он не надевает, а просто накидывает его на голову, закутывается, как в платок. Пока не присмотришься, кажется, что это какое-то странное существо.
Не спала и Чиберкеева. У неё вдруг закрутило в животе. Вскоре боль стала жгучей, невыносимой. Чиберкеева очень испугалась, принялась истошно кричать на всю больницу.
Прибежала дежурная сестра Лена.
– Зажгите свет, зажгите свет! – кричала Чиберкеева. – Я боюсь темноты!
Лена побежала за дежурным врачом. И опять, на беду, дежурил тот же Салах Саматов. Он с кем-то весело разговаривал по телефону, то и дело громко смеялся, иногда, понизив голос до шёпота и прикрыв трубку ладонью, говорил что-то уж очень таинственное, после чего с ещё большим удовольствием смеялся.
Лена, приоткрыв дверь, торопливо сообщила, что Чиберкеевой очень нехорошо.
– Сейчас приду, – бросил Саматов и продолжил весело болтать.
Но дверь в дежурку осталась открытой, крики Чиберкеевой доносились и сюда. Саматов вынужден был прекратить разговор, зайти в палату.
– А вы почему не спите?! – закричал он на вышедших в коридор больных. – Одна истеричка орёт, а остальные слушают… Марш по палатам!
Чиберкеева рыдала, корчилась, уткнувшись лицом в подушку. Саматов принялся бранить её.
– Я не хочу умирать, не хочу! – кричала больная. – Позовите профессора, он спасёт меня!
– Чем это пахнет? – спросил Салах и нагнулся к больной. – Вы опять пили зелье? – И обернулся к сестре: – Она одурманила себя. Если не перестанет кричать, переведите в изолятор.
Саматов собственноручно потушил свет и вышел из палаты.
Часов до трёх ночи Чиберкеева лежала молча. Но вот за открытой дверью опять замелькала чёрная тень Исмагила. Раз от разу эта тень всё больше пугала Чиберкееву, и казалась ей призраком. Чтобы не закричать, она заткнула себе рот одеялом. А грудь была готова разорваться от боли, в животе горело. Она изо всех сил сдерживалась, боясь, что её на самом деле переведут в изолятор, но боли стали невыносимы, и она истошно закричала: «А-а-а!» Как раз в эту минуту в коридоре что-то загрохотало, забилось: у Исмагила начались сильнейшие болевые спазмы.
Первой проснулась задремавшая было Галина Петровна. Когда она открыла глаза, Чиберкеева в белой рубашке стояла на кровати во весь рост, прижавшись к стене. Вдруг она начала приседать и, постояв немного на полусогнутых коленях, рухнула на кровать.
Галине Петровне сперва показалось, что у неё бред. Но вскоре она опомнилась, начала искать под подушкой ручку сигнальной лампочки. Ручка куда-то закатилась. Наконец нашла, принялась сигналить. Сёстры и санитарки, занятые бившимся в припадке Исмагилом, не сразу заметили сигналы. Но вот вбежала Лена, зажгла свет и тут же бросилась обратно.
Аниса Чиберкеева была мертва.
14
Вся больница погрузилась в траур. Санитарки, сёстры, врачи – все ходят понурые, опустив глаза, лица у всех сумрачные, разговоры ведутся вполголоса. Обычно Диляфруз своей быстрой, лёгкой походкой, ласковой улыбкой оживляет настроение в палатах, вносит бодрость в сердца больных. Но сегодня и она ходит как тень. Ни на кого не взглянет, не поднимет длинных ресниц, лучистые глаза её заволокла печаль. Примолкли и другие больные – кто мог сказать, что творилось в эти минуты в их сердцах? В больнице тихо-тихо. Если нечаянно уронят что-нибудь, все вздрагивают.
На улице тускло, холодно. Тёмно-синие тучи закрыли солнце; в саду между голыми ветвями деревьев свистит ветер. Его вой слышен во всех палатах, он вселяет в больных ещё большую тревогу. Их взгляды, устремлённые в потолок, становятся ещё тяжелей и мрачней. В такие минуты лучше не смотреть в глаза больным: они глубоко погружены в свои безрадостные мысли, оставаясь наедине со своим недугом, они ничего не просят и не требуют от других, и вряд ли верят сейчас врачам и сёстрам.
В кабинете Алексея Лукича идёт утренняя планёрка. Врачи слушают объяснения Салаха Саматова, который дежурил в те часы, когда умерла Чиберкеева. Он даёт объяснение так невозмутимо и беззаботно, будто ничего особенного не произошло. Он старается свалить всю вину на больную; дескать, если бы она не была такой глупой и не стала бы пить зелье после первого предупреждения, беды бы не случилось.
– Почему вы считаете, что она умерла от разрыва сердца, испугавшись бродившего в коридоре Исмагила? – спросил Абузар Гиреевич, когда Саматов кончил говорить. – Вскрытия ещё не было, но, по-моему, она умерла от отравления. Узнав, что больная выпила снадобье, вы должны были немедленно сделать ей промывание желудка и принять меры против возможного отравления.
– У меня создалось впечатление, что она просто одурманена или даже пьяна, и до утра протрезвится, – отвечал Саматов. – И потом – ведь это не единственный случай в медицинской практике… – В глазах Саматова замелькало беспокойство, он начал оглядываться по сторонам, ища поддержки.
– Есть показания, что больная начала беспокоиться с одиннадцати часов вечера, – продолжал неумолимо изобличать профессор. – Она требовала позвать меня или Магиру-ханум. Почему вы не дали нам знать о требовании больной? Откуда у вас такая самонадеянность?
– Абузар Гиреевич! – крикнул Саматов. – Беспокоить вас среди ночи!..
– Когда больной в тяжёлом состоянии, для врача не существует ни дня, ни ночи! – резко оборвал его профессор. – Вы должны это знать, Салахетдин. Вообще непонятно – что вы сделали для спасения больной? О чём вы думали?
– Я сделал всё от меня зависящее, Абузар Гиреевич! – из последних сил оправдывался Саматов, впрочем, не сбавляя развязности. – Чем обвинять меня во всех грехах, лучше бы навели порядок в отделении Магиры Хабировны. А куда смотрела Гульшагида Сафина, которая дежурила днём, когда больным приносили передачу? Ведь она была предупреждена о том, что за Чиберкеевой надо строго следить…

