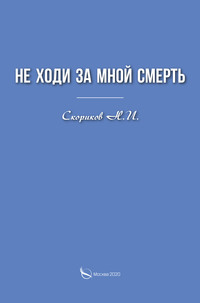
Не ходи за мной смерть
– Ой, лышенько! А вы ж хто? – оторопело спросил Сивый, так и не решив, то ли штык с винтовкой вытаскивать, то ли руки поднимать. А когда команда повторилась, поднял. – Ось и втиклы, хлопче, тут ще ни кущ, то и кат сыдыть – сказал он словно сам себе, и столько в его до смерти уставших глазах было боли, что подхватившийся с земли Михаил хотел крикнуть: «Не бойтесь! Свои! Партизаны!» Но стоявший рядом не знакомый еще Мише партизан посмотрел строго на Михаила и прижал указательный палец к губам.
– Того на тропе тоже ты? – спросил старший группы у Сивого. Но он молчал. Ему уже успели связать руки и вывернуть карманы. На землю упал маленький комочек тряпки, из которой выкатилась звездочка красноармейца.
– Развяжите ему руки и подыми звезду, – сказал командир.
– Я нэ знаю, хто вы и що вам треба. Кажить прямо, я вас не боюсь, – ответил Сивый и заслонил спиной Михаила.
– Терять тебе уже и бояться нечего. У бандитов тебя ждет смерть, перед народом позор, который смывают кровью, – подытожил командир. – Пойдешь к бандитам, они тебя знают, и перевяжешь их, как баранов. Если же они не спят от дедова снотворного, скажешь, чтоб сдавались, или закидаем гранатами.
– Вин мэнэ спросэ, хто мэнэ прислав и кому сдаваться?
– Правосудию советской власти.
Когда командир произнес эти слова, Сивый, будто что-то вспомнив, пристально посмотрел ему в лицо.
– Я милиционер Охрымэнко из Уташив. Нашу часть под Анапой разбили, попал в окружение. С малэнькой группой хотилы пробиться к Новороссийску, к своим. Тут воны, полыцаи, шукають партизан. Воны размовляють по-нашему, я спросоню ны разумил, ще це каты. Уси мои хлопцы втиклы, а менэ повязалы. А главарь цих бандюков мий шурин, теж бандюк с Уташив. Так вин менэ с собою и тягае.
– Долго он рассказывает, командир, могут очухаться и расползутся, как змеи, – прервал Сивого высокий плечистый партизан. В его седых волосах запутался желтый листок береста и чуть дрожал, и Михаилу казалось, что в нем все внутри так же дрожит, как тот желтый листок. Враги убили маму и бабушку, захватили и мучают Сашу, до смерти замучили Веру и Асю. Этот Охрименко убил бандита, партизаны убьют его. Много крови, для чего, почему, зачем так много крови? Ему теперь самому захотелось убивать – стрелять, резать, протыкать штыком. Убить коменданта Методия, Матвеева, румынов, немцев, полицаев. Ему казалось, что если смести с земли всю эту неожиданно нахлынувшую нечисть, то все вернутся – и отец, и мама, и бабушка, и Вера с Асей, и братья Витя с Володей, что с отцом на фронте. А дед придет и погрозит, как всегда, указательным пальцем: «Опять шалил, Михай?» Михаил почувствовал, как прошла дрожь в теле и появилась слепящая глаза ярость, которая буквально кинула его туда, где, пригвожденный к земле штыком, застыл Сыч. Со злостью он рванул на себя винтовку, а когда вытащил окровавленный штык, резко развернулся к командиру и предложил:
– Я пойду! Я знаю, где эти гады!
Столько в крике мальчишки было отчаяния и боли, что заходили желваки на скулах командира, и он, низко наклонив голову, чтоб не видеть глаза Миши, сквозь зубы, с растяжкой приказал:
– Охрименко, иди…
Тот было двинулся, но вдруг остановился. Снял с себя защитного цвета ватник, распорол у рукава подкладку и протянул командиру партбилет:
– Мабуть, я загыну, так хай партия знае, шо вже богато катив вбыв.
Он попросил две гранаты, забрал у Сыча наган и ушел. А через полчаса на горе Карачун одним за другим раздались два оглушительных взрыва. Над горой взметнулось грязно-черное облако. Раздались душераздирающие крики, выстрелы – и все смолкло.
– Вот и все! Он был человеком, коммунистом – Охрименко Кузьма Терентьевич, – сказал командир, раскрыв стального цвета книжицу. Тяжело вздохнув, спрятал ее в нагрудный карман кителя и подошел к Михаилу:
– Рано тебе, Миша, брать в руки винтовку, надо сначала познать науку, как с ней воевать. Вот что. С продуктами у нас не очень, так что бери свой самовар и иди добывать харчи. А сестренок твоих мы сами похороним в айвовой роще. – Грустными глазами смотрел он на Михаила, и дед Гуков смотрел, и партизаны, будто хотели оставшееся тепло своей души вложить в этот взгляд. – Как доживем до победы, Миша, памятники поставим тем, кто испил чашу горя до конца, – добавил командир на прощанье…
Продираясь по лесным зарослям высоких горных вершин и ущелий, торопился рассвет. Посеребрил луговые травы вдоль Дюрсинки и синеву крупных горошин терна в подлеске и все ниже опускался прозрачным туманом в румынские окопы. Острым сквознячком дохнул в казематы, прилепившиеся словно ласточкины гнезда на пологих скатах гор, окружив дорогу и село. Потянули на себя шинели спящие вояки. Запутался холодный ветерок в черной, лохматой бороде спавшего, скорчившись у входа в каземат, часового. Может, Румыния ему снилась, какое-нибудь утопающее в золоте осенних садов село, а может, ароматная слоеная мамалыга, потому что он блаженно улыбался и вытянул сомлевшие ноги, которые уперлись в огромный прокопченный чугун, стоявший у входа в каземат. Тот, качнувшись, покатился с горы, грохоча и подпрыгивая, набирая скорость. Разбуженный грохотом катившегося чугуна часовой нажал на спусковой крючок карабина. Раздался выстрел. Пуля, рикошетом ударившись о бревно, о стенки каземата, отскочила и впилась в крупный зад спящего на нарах фельдфебеля. Боль разбудила его, и он, хватаясь за задницу, заорал нечеловеческим голосом:
– Партизаны! Партизаны! Вставайте, мать вашу…
Ударившись о саманную стенку коровника Фроси Персиковой, чугун остановился. Смолк грохот, но началась беспорядочная стрельба, и по проснувшейся всей линии румынской обороны передавалось из уст растерявшихся вояк слово «партизаны». Словно девятибалльная волна, по всей долине катился переполох к морю. Все, кто проснулся, стреляли. Куда? В кого? Куда попало. Из окна бывшего сельсовета в нижнем белье выскакивали перепуганные офицеры, хотя никто дверей не запирал, только исчезли куда-то часовые. Спешил и комендант Методий. Денщик спросонья к правой ноге Методия подставлял левый сапог и никак не мог оторвать пробудившегося взгляда от большой деревянной кровати, где из-под одеяла с розовым шелковым чехлом белело соблазнительное круглое девичье колено. Перехватив взгляд денщика, комендант лягнул его босой ногой так, что тот откатился к двери и, вскочив, снова метнулся к комендантским сапогам.
– Пошел вон! – сквозь зубы процедил Методий.
Он быстро обулся, затянул потуже пояс с кобурой и подошел к кровати. Александра спала крепким сном. Пышные волосы цвета золотого ковыля разметались на белоснежной пуховой подушке. Чуть припухшие, зацелованные добела сочные губы вздрагивали, словно она собиралась плакать. Методий наклонился, поцеловал ее в подбородок, туда, где чуть наметилась ямка, и поспешно вышел на крыльцо.
Докладывал помощник коменданта, длинный, худой, с желтым как хна лицом румын. Из доклада явствовало, что на рассвете на каземат фельдфебеля Попеску напало не менее двадцати вооруженных бандитов. В бою он сам был ранен. Среди нападавших насчитывались большие потери, но им удалось унести трупы.
Первый луч солнца соскользнул с лесистой вершины и загорелся в седоватой фельдфебельской бороде. Слезливо блестели уставшие цыганские глаза, от неутихающей боли в заднице за несколько часов осунулось еще не старое, скуластое лицо. Он еле стоял на ногах.
– Значит, бандиты? – спросил Методий, когда смолк последний выстрел и угомонилась вся рать.
– Точно так, комендант. – Фельдфебель резко встрепенулся, подняв руку к виску, но боль перекосила его лицо, и получилась жалкая гримаса.
– Значит, трупы унесли бандиты? – Ядовитая улыбка тронула лицо коменданта.
– Точно так, комендант, – вместе с болью выдавил несчастный победитель.
– Лисичану! – обратился комендант к помощнику, – чтоб этим дуракам не снились партизаны, даю вам два часа на расследование. Выявятся пьяные, расстреляю лично. Жду рапорт с позиций. – Сказал и скрылся за дверью особняка, где досматривала сон Александра.
Тихо звякнуло ведро, и тут же скрипнула дверь. Михаил открыл глаза. Где-то там, под ним, потрескивали в печке дрова. Почувствовав тепло правым боком, понял, что спал на печи. Щекотал ноздри и дразнил голодный желудок запах печеных яблок. Серело в окне и справа, у печки слышались возня и шепот:
– Крути, а я буду подсыпать.
– Нет, дулечку тебе, больно хитрый, ты крути, а я буду подсыпать.
– Я прошлый раз крутил, а ты подсыпала, возьми свою дулечку обратно.
– Не будешь крутить, тресну!
В полумраке Миша разглядел детей. Ей лет восемь, ему поменьше.
– Тише, разбудишь партизана, – втянув в плечи стриженую голову, предупредил сестренку мальчишка, и шепот его переходил в тоненький, мышиный голосок. – Ночью пришел, что-то страшное в мешке принес, слышал я, как они с маманькой гомонили: все партизаны, партизаны…Такой он партизан, как ты Гитлер. Тоже мне партизан…
– Что ты сказала? Повтори! – Началась возня, и они кубарем покатились по полу.
Михаил слез с печи и тут заметил жернова: два круглых камня на одной оси. В центре верхнего камня небольшое отверстие-течка и сбоку деревянная ручка. Возившиеся на полу не заметили, как он слез с печи и, усевшись на пол, стал молоть кукурузу. В дверях, внося в дом свежесть утреннего воздуха, с подойником появилась женщина:
– Как же вам не стыдно, неугомонные? – спросила она не сердито, приятным, спокойным голосом. Гость трудится, а вы деретесь? Я вот сейчас разберусь с вами… – Михаил оглянулся и широко открыл глаза: в дверях стояла женщина… похожая на его мать. Та же каштанового цвета, из оленьей шкуры коротенькая шубка и серый пуховый платок, и голос, и лицо. Ничего не понимая, Михаил перестал крутить колесо. Так и замер. Спазм сдавил горло. Он хотел крикнуть: «Мама!» – и не смог, только неудержимо хлынули слезы, сбегая по щекам, они падали на ноздреватый камень крупорушки.
– Ты чего, миленький, чего? – взволнованно спросила женщина. Поставила на скамейку подойник и подошла к Михаилу. Голос у того прорвался, как паводок через плотину:
– Мама, мамочка! Где ж ты была, мама? Веры нет! Аси нет! Они там, убитые. Мама, мамочка, и Саши нет, у румын она… – Всхлипывая, он встал с пола и, широко открыв глаза, подходил все ближе к женщине. Он терял рассудок:
– Мама, это я, Миша! Ты узнаешь меня, мама?
Женщина поняла, что причиной потрясения явилась эта шубка, которую она вместе с пуховым платком выменяла на отруби месяц назад у двух девушек.
– Успокойся, Миша, и мама придет, и Вера, и Ася. Успокойся. – Но он не слушал ее, будто ее не было в комнате, и никого не было. Безумными глазами он смотрел на оленью шубку, которую женщина растерянно накинула на стул у печки. Подойдя ближе, он потрогал рукав. Глаза его лихорадочно блестели, а лицо как восковая маска застыло в жуткой гримасе:
– Что ж ты молчишь, мама? Я же вижу, как ты плачешь. Мне вот сюда падают твои слезы. – Ладонь левой руки он положил себе на голову, словно пудовую гирю, и от тяжести склонил ее над шубой. – Ты вставай, мама, вставай! Нам нельзя здесь задерживаться. Ждут нас и бабушка, и Вера с Асей. – Застыли, онемели и дети, и их мать, а Михаил направился к двери, босой, рубашонка дыбилась серыми латками на согнутой спине, за рукав он тащил по полу оленью шубку, приговаривая:
– Пойдем, мама, пойдем…
Только на улице женщина смогла его догнать:
– Что ж ты, Миша, ушел и не позавтракал? – спросила она, догоняя его и пытаясь задержать, жестом показывая на дом.
– Нельзя никак нам задерживаться, тетя, нас очень ждут… – Не помнил Михаил, как он попал в крохотную хатенку с низким потолком и чуть заметными стенами. Она делилась на две половинки.
В первой небольшой стол, скамейки. Слева от входной двери – железная, с никелированными спинками кровать, застеленная козьими шкурами, а справа, в более светлом углу, икона Николая Угодника. И везде пучки разных трав, а под крышей крыльца – калина. Крупная сочная калина. Мише казалось, что здесь и не витал дух человека, а был мир цветов и трав. Настой запаха был настолько плотным, что, казалось, не воздух вдыхаешь, а пьешь крепкий настой разнотравья. Весь кошмар, который он перенес, остался в другой половине. Совсем темной, таинственной. Она с первой половиной соединялась маленькой дверцей. Не сгибаясь, в нее мог войти ребенок не более пяти лет. Если спросить мальчишку, что ему пришлось перенести в той глухой каморке, похожей на баню, он ответит, что видел страшный сон и орал от ужаса, пока совсем не сорвал голос. Трещали дрова в печи. Докрасна накалялись огромные круглые булыжники. Горбатая старушка с курносым пятачком, как у поросенка, плескала на красные камни разные отвары трав, и от этого густел воздух. Метались над лежащим на деревянной полке Михаилом разноцветные сгустки пара. Пар становился все гуще, и все чаще то там, то тут мелькала горбатая фигура с лохматой головой старухи. Пламя прорывалось сквозь сгустки пара, бросало по стенам и потолку страшные тени. Вот звериное обличье Матвеева. Потом чертовое колесо и раздавленная голова бабушки, которая что-то жуткое говорит хриплым, чужим голосом. Потом на Михаила глянули пустые, мертвые стекляшки дедушкиных глаз. Язык его вывалился изо рта, закрывая всю бороду. Рот был открыт так широко и безобразно, что жутко было видеть это, так жутко, что Михаилу казалось – там, под черепом, шевелится змеиный клубок. Змеи копошатся так, как однажды пришлось увидеть их в неглубокой, залитой солнечным светом яме. Тогда зрелище вызывало чувство гадливости и страха, а сейчас разрывающую тело, не унимающуюся боль. Клубок гадюк начал расползаться по вспыхнувшим стенам и потолку. Они ползли по завалу, где покоились сестры, и одна за другой влазили в круглые отверстия с фиолетовыми краями ран, у левой груди Веры и Аси. Потом две гадюки вылезли до половины, так и замерли, как две толстые палки, шипя и шевеля раздвоенными языками. И вдруг одна заговорила голосом Сыча: «Что ж ты, сюсек, не захотел утешить Гришу, теперь Гриша тебя укусит». Змея все ближе и ближе, а Михаил не может шевельнуться. Именно это обстоятельство взвинтило страх до немыслимой жути, и он закричал, кричал до боли в пуповине.
То ли гадюки испугались неистового, раздирающего душу крика, то ли страшного обличия старухи, только вдруг быстро-быстро поползли прочь по стенам и потолку, подгоняемые бормотанием и монотонным движением рук и всего тела старухи. Больше Михаил ничего не помнил…
Разбудил его полуночный шепот. Он открыл глаза, но на печи было темно и жарко. Сквозь тоненькую щель шторок, сквозь окно, заглядывала луна. Шептались двое:
– Мы ждэм, а його ныма и ныма, ось пишев… – Такой знакомый голос, а Михаил не может вспомнить, где его слышал. Потом голос женщины:
– Аксинья долго с ним возилась, говорит, что проснется здоровым. Вот он беспробудно спит уже четвертые сутки. Страх меня берет: а вдруг так и не проснется? Аксинья успокоила: «Сердцем чую, выздоровеет».
– Треба вирыть, тут вже ничим ны допомогты. Хай спыть хлопчик, як встане, приду за ным. До побачинья, Клавдия Григорьевна. Послышался шорох, потом скрипнула тихонько дверь. Сквознячок зашевелил шторки на печи, и на миг Миша увидел женщину. На плечи ее была накинута шаль. Словно водопад, на темнеющую шаль падали совершенно белые, до самого пояса волосы. Потом шторки сошлись. Дверь закрылась, и опять на печи стало темно и жарко. «Что со мной было?» – спросил он мысленно и пошевелил пальцами рук, словно хотел проверить, действуют они или нет. Затем приподнялся и сел. И вдруг вспомнил: да, он не мог ошибиться, это был голос Сивого. Подвинулся ближе и раздвинул шторки. Женщина так и стояла, задумчиво глядя на закрытую дверь.
– Верните его, пожалуйста! Я узнал его, узнал, узнал! – повторял Михаил, спускаясь с печи, словно это имело очень важное значение, что он узнал голос Сивого. – Он остался живым, там, на горе Карачун.
– Проснулся? Очень хорошо – и что узнал по голосу, еще прекрасней. Значит, все будет хорошо, – произнесла женщина так спокойно и так уверенно, что Мише ничего другого не осталось, как попасть в ее теплые объятия. Она нежно прижала его голову к груди. Сквозь ткань шали он почувствовал тепло особое, целительное, снимающее напряжение и неловкость. Он, обхватив руками ее тонкую талию, прижался к ней и беззвучно заплакал, не стыдясь своих слез…
Все прозрачнее туман над Черногорьем, и на самой высокой горе со смешным названием Марусин нос загорелось солнце. Село оживало. Скрипнула дверь самой крайней к лесу, и в полуоткрытую дверь выглянула Фрося Персикова. У Фроси полон дом детей, стариков и таких же, как она, женщин. Всех, кого выселили из зоны румынской позиции, загнали в Фросину хатенку. Не случись этого горя, может, Фроси и ее двум ребятишкам хватило бы продуктов до весны, а там крапива, щавель.
Но вышло все иначе. Все, что было, съели. Только ночью затихают дети, и только кое-кто во сне просит есть. А днем многоголосый голодный детский хор доводит до сумасшествия. Вот она и решилась на последний отчаянный шаг. В полуоткрытую дверь выглянула и, убедившись, что вокруг ни души, пошла в коровник. Там, еще вчера спрятанная в загородке от румынского глаза, лакомилась плющом Фросина надежда – коза Нюрка. Войдя в коровник, Фрося долго глядела на верстак, на полки для инструмента, на жирно смазанные дегтем тиски. Будто он – Федор – и не уходил на фронт и вот сейчас выйдет из загородки и спросит с теплой улыбкой, подкручивая черный ус: «Чего изволите приказать, Ефросинья Васильевна?»
– Зарезать последнюю козу, чтоб хоть на мгновение не слышать душераздирающие: «Мама! Кушать…» – словно ему, Федору, ответила Фрося и решительно верхней полки взяла острый нож, которым в лучшие времена Федор колол свиней. Потрогав лезвие, она пошла в загородку, но неожиданно остановилась, как вкопанная. В полутьме на нее стеклянно смотрела Нюрка. Ее рогатая голова с окровавленной бородой и шкурой висела на веревке, привязанной к балке крыши, на полу темнели кишки и маленькие, словно слепые котята, Нюркины плоды. Преодолевая страх, Фрося подошла ближе, и тут ее ноги подкосила жгучая боль. Она упала на охапку зеленого плюща. В отчаянии молотила кулачком жирные, мягкие листья, будто они были во всем виноваты. Спазмом сдавило грудь и горло, она не могла рыдать, только мычала, как мычат немые, и стонала, как стонала Нюрка, когда были тяжелые окоты. Потом прорвался голос. Долго плакала Фрося. Досталось всем: и Гитлеру, и Антонеску, и всей осатанелой сволочи, что словно чума свалилась на голову, с грабежами, насилием, расстрелами. Среди румынской рати были «вечно голодные». Они как тифозные бродили по селу из хаты в хату, хватая все, что на столе лежит, – горсть кукурузы, ложку мамалыги… Досталось и Федору, что бросил, что ушел и не ведает, как ей тут с детьми приходится: стиснув зубы, молчать и день и ночь думать, чтоб самой не сдохнуть от голода и детей уберечь. Наплакавшись, она немного успокоилась и пожурила себя: «Что ж я, дура ненормальная, упрекаю его – Феденьку. Может, его, кровинушки моей, и в живых давно нет. О Боже». Встав на колени и подняв заплаканные глаза к потолку, она молилась: «Сбереги его, Боже, и помилуй. Возверни с фронта кровавого. Не за себя прошу, Боже. Для детей малых, неповинных. Не дай им помереть, Боже. Верни кормильцев и прогони с земли нашей всю нечисть. Поверни, Боже, лик свой ясный к нам, забытым всеми, брошенным на погибель и бесчестье, Боже!»
Изложив свое горе и просьбы Господу Богу, Фрося встала на ноги, сняла Нюркину голову, развязав петлю, завернула ее в шкуру и пошла из коровника. Когда она вышла, ее внимание привлек огромный чугун. Положив на землю шкуру с Нюркиной головой, она наклонилась над чугуном и по следам жира на поверхности догадалась, где варилось мясо козы. Но откуда он здесь мог взяться? И мысленно по следу на траве, по прорехе в кустарнике, которую словно плугом пропахали, она провела путь, по которому катился чугун, и ее глаза зацепились за каземат, который прилепился на небольшой террасе высокой горы.
– Чтоб вы подавились, проклятые! Чтоб ваши кендюхи такими же чугунами повздувались!.. – проклиная, Фрося вскидывала небольшие свои кулачки, а возившиеся на террасе, у входа в каземат румыны делали вид, что не слышат ее и не видят, тогда она на румынском языке всыпала им пожарче. То ли слова брани их задели, то ли надоело ее слушать, только двое сняли штаны и показали ей худые, волосатые задницы. На этом инцидент был исчерпан. Положив шкуру с головой козы в чугун, она пошла в дом.
– Зачем ты, Фрося, зарезала козу? – помогая ей поставить на пол у печки огромный и тяжелый чугун, спросила Дарья Журба, молодая женщина. Даже тронутая голодом, ее внешность ласкала взгляд красотой и обаянием.
– Румыны зарезали. Это все, что осталось, – ответила Фрося глуховатым, надорвавшимся голосом. Десяток пар голодных глаз уставились на козью шкуру, а когда она развернулась и на пол упала окровавленная, с блеклыми глазами голова Нюрки, не выдержала и зарыдала восьмилетняя Оксана – дочь Фроси:
– Ой, Нюрочка моя, как же мы без тебя?! Я ж тебя кормила и поила, Нюра! – Девочка подошла и, присев на корточки, худенькой, с синими прожилками рукой гладила густую козью шерсть, и слезы катились по ее щекам. Только теперь и до малого, и до старого дошла крутая волна горя.
– Значит, моя очередь пришла, Фросенька. Стемнеет, пойду в офицерский бардак, – процедила сквозь зубы Даша. Ее большие, словно черные сливы, на отощавшем лице глаза вспыхнули злостью.
– Ратуйтэ, люды! – взвыла восьмидесятилетняя худая и серая как смерть старуха, свекруха Дарьи Журбы. – Даша, доня, ты дуже щира жинка. Ни вздумай це накойтэ, це дуже важкий грих. Боже тэбэ покорае на цем и на иншем свите. Мы уси повмыраем, але душа вична. Я знайла, шо вы, комсомольцы, приклыкаетэ гнив божий. Царя вбылы, церкви порушилы, попов поубывалы. Вы порушилы виру православну. Вы отрымалы покорання божье. Зараз трэба вытерплюваты тай молыться, чекаты пробачення божьего.
Старуха причитала до самого вечера.
– Так я пойду, Фрося, глядишь не зае… – будто не веря, что она это сможет, сказала Даша. Старуха как будто ополоумела. Упав на пол, вцепилась в Дашины колени и зарыдала, причитая:
– Ты божевильна, ты божевильна…
– Ничего, старуха, не горюй, вернется Василек, и ему останется, – бравировала Даша, но это делалось скорее для самой себя, чтоб как-то преодолеть страх перед таким страшным поступком.
Комендант Мефодий сквозь пальцы смотрел на увеселительные мероприятия и частые попойки офицеров. Лучшие сорта вин были в избытке, приносили солдаты из погребов винзавода, у озера. Там стояли немцы, но вина хватало всем. А женщин – укажи пальцем, и любую приконвоируют. Еще издалека Даша услышала музыку, доносившуюся из окон бывшей конторы. Чем ближе она подходила, тем деревяннее становились ноги. У входа часовой – пожилой румын – удивленно посмотрел на Дашу, покачал осуждающе головой, но пропустил. Там, где когда-то проводили собрания, открылся офицерский клуб. Стулья и большой стол для президиума были выброшены, вместо всего этого просторное помещение было меблировано мягкими диванами, небольшими, на две, четыре персоны, столиками с ажурной резьбой на коротких ножках. У самого входа величаво возвышались старинные, из красного дерева серванты, плотно уставленные бутылками. Из бордового бархата, по всей длине помещения, стояли переносные ширмы, и вдоль всего помещения на стенах зеркала, трюмо и в дубовых небольших кадках фикусы и пальмы. Все устроено так, что можно сделать танцевальный зал или с помощью передвижных бархатных ширм устроить интимные кабины. Комендантский денщик выводил на скрипке традиционную румынскую «Мруцу». Пары ритмично двигались по кругу, потом музыка прерывалась, одна пара входила в круг, становилась на расстеленный платок на колени и целовалась. Увидев Дашу, денщик вытаращил блудливые черные глаза. Один из офицеров, до этого смаковавший у стойки румынский ром, отставил бокал и поспешил первым перехватить Дашу. После каждого выпитого бокала и очередного целования на коленях офицеры становились развязнее и наглее. Зашевелились передвижные ширмы. Все больше пар уединились, а скрипка стонала румынские мелодии, да таращил лихорадочные глаза денщик Методия. Когда Дашу ее напарник после очередного бокала и целования толкнул на диван, в зашторенной кабине она ему сказала, что хочет есть. Он сперва ничего не понял, ошалело уставившись пьяными глазами, а потом, когда дошло до него, воскликнул:
– О, кушать? Не можно!
Румын подбирал нужные слова, но кроме «Давай потом кушать» ничего не придумал.
– Сначала есть, понял? – К переносице сошлись черные крылья бровей, и отрезвляюще на офицера сверкнули ее глаза.
– Хараше, я тебе много дам, много, но ты будешь любить всех, всех! – сказал он строго и поднял кверху указательный палец. Потом повел Дашу в маленькую комнатку, где когда-то стучал отчетами старый бухгалтер Трофимыч. Отомкнув два огромных амбарных замка, он открыл массивную дверь. На полках этой кладовой чего только не было: и сыры, и колбасы, и белый хлеб, и масло сливочное. Глядя на это изобилие, Даша почувствовала, как от голода у нее закружилась голова. Перехватив ее взгляд, он пояснил, что все это его, он хозяин, и, тут же взяв в углу небольшой белый мешок, начал в него кидать то, на что Даша смотрела.