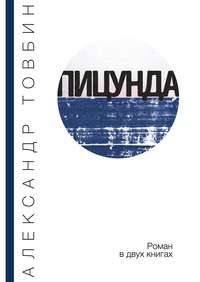
Пицунда
Мало того, сюжет, как проводник по событиям и предъявитель случившегося, усиливает связи в каркасе текста-сооружения.
Остальные же смысловые и символические уровни текста событийно-сюжетной направленностью не обусловлены, вольная мысль, путешествуя по двум плотным, но диффундирующим средам языка и времени (какое занудство…) в них преломляется, не забывая при этом, подобно греческому хору, комментировать действие.
Этот комментарий, разрастаясь, и подводит к тайнам пропорционирования.
Что важнее – проблемный потенциал (недурно, а?) или череда событий?
История или ее, истории, трактовки?
И – если не забывать о композиции – стоит ли доверяться ощущению перегрузки, рискованного сдвига уровней-этажей, когда многословие начинает критически нависать над сутью?
Да и элементарный здравый смысл подсказывал, что всё, что дорого ему, в текст не затащить, ведь не всякий комод-мастодонт пролезает в дверной проём.
И между прочим, дошло, что отбор, самоограничение – защитная реакция памяти: нельзя объять необъятное.
Да и время – ограничитель, хотя бы потому, что ограничен земной срок.
А пока суд да дело, время и память, каким-то образом смыкаясь и пересекаясь в сознании и непрестанно расширяя-углубляя его, отфильтровывают поток фактов, картинок-кадров…
Соснину нелегко давалось пропорционирование подвижных словесных масс, но, взявшись за шариковую ручку, он сразу понял, что от обрушения текст спасёт не паническое вычёркивание вроде бы лишних слов, фраз, абзацев, а специальное ядро жёсткости, в полостях которого, прошивая все этажи текста, снуют между первой и последующими фразами лифты сомнений.
Сомнения помимо прочего – это индивидуальная технология нейтрализации диспропорций, уравновешивания, искусного продления-поддержания устойчивости, хотя и хлопотная, небезопасная технология – приходится не только сновать по строчкам вверх-вниз и обратно, но и выбираться из текста, чтобы взглянуть на него снаружи: не прозевал ли перекос, не валится ли?
Да, использовал архитектурные навыки.
Посматривал критично на текст, как на недостроенное здание.
Если устойчивость сохранена – продолжается нагружение, если шатается – выручают сомнения в надёжности последних абзацев, и эксцентриситет, опознанный и пристыженный, исчезает.
Так, прочностные характеристики обеспечены.
А как защитить легко уязвимые нервные ткани новорождённой прозы?
Опережая читательское мнение, можно с показной растерянностью ли, самоиронией выставить напоказ изъяны своего текста, связав авторской осведомлённостью (и откровенностью) руки критиков-потрошителей, которые перед нападением лишний раз задумаются: а вдруг впросак попадут?
Или можно посетовать на несообразительность будущего (воображаемого) редактора, и тогда настоящий редактор притворится, что всё понял: это о дураках, а я – умный.
Если страницу смочили не капли дождя, а слёзы умиления, не вредно будет предупредить, что так и задумано, это, мол, не авторский бзик, а стилевой приём, и тогда его, приём этот, понимающе кивнув, оценят другие.
И развивая успех – если в подзаголовке перед существительным «роман» тиснуть прилагательное «сентиментальный», текст могут разругать за что угодно, но только не за слезливость.
Если же под заголовком кокетливо врезать: «Опыты тавтологии», то решится ли кто-нибудь расписаться в отсутствии чувства юмора, обвинив автора в безвкусном пережёвывании сказанного и пересказанного?
Можно также, к примеру, набрать на титульном листе мелким (чем мельче, тем лучше) шрифтом: «Записки эпикурейца».
Разве рискнут тогда упрекнуть автора в том, что он смотрит на мир сквозь розовые очки?
Вещи надо самому называть своими именами, и тогда…
Короче: увидев слабости прозы и открыто сообщив о них в самой прозе, так ли, иначе обсудив (и осудив) их, погримасничав и посомневавшись, можно слабости превратить в достоинства – культурные читатели в этаком самоуничижительном (кокетливом) новаторстве даже преемственность усмотрят, Стерна ли припомнив, Розанова, Олешу с Катаевым…
Здесь, однако, поджидают свои сложности: критикуя текст свой и, стало быть, себя, раскрывая секреты письма, объясняя (суконным языком) принципы компоновки, ритмики, демонстрируя приёмы, надо бы избежать взаимного исключения смыслов, да ещё хорошо было бы сохранить (как?) аромат, загадочность, а главное – лёгкость и радость до беспамятства затягивающей игры.
Если же отвлечься от текущей конкретики, представить жизнь произведения во времени, то стоило бы заметить, что обнажение литературных кодов не изгоняет художественную тайну, а средствами перекодировки может даже её роль усиливать благодаря замещению функциональных содержаний символическими: сетка фахверка на щипцовых фасадах, к примеру, давно уже превратилась в культурном сознании из конструктивной необходимости в декоративный знак, накладной, примитивно-грубоватый вензель ганзейского процветания, обеспечивающий прежде всего красоту графических членений фасадной стены и лишь попутно, между прочим, по чистому (верят ротозеи-туристы) совпадению – её жёсткость и прочность.
Тетрадка отодвинута… Посматривая на море и облака с рваными зияниями лазури, всё думу думает об индивидуальной технологии сочинительства, не зная как записать свои безответственные раздумья, не зная даже, стоит ли вообще их записывать…
Солнце, как яичный желток, обозначилось за облачной мутью, насквозь просветило плющ, угол кафе затопила нежно-зелёная тень, будто чуть пригашенная плывучая вспышка света.
А пока длилась игра сомнений: может быть, ещё сложнее? Вдруг выдержит? А если так накренится, что не удастся выправить? Снова всё сначала, и так – без конца.
Нагружал текст словами-смыслами, рисковал устойчивостью конструкции, которую изначально хотел видеть сбалансированной, но лёгкой.
Добиваясь открытости и непреднамеренности, а заодно прозрачности, рисковал и вовсе потерей формы: хождение по проволоке без страховочной лонжи, без натянутой внизу сетки, без подстеленной соломки, в конце концов.
И параллельно с рискованной игрой сомнений – невнятное проборматывание, смутное планирование, да что угодно из нескончаемых потуг сочинительства, лишь бы не задумываться всерьёз о стиле-форме, структурной организации строк, страниц. Набегает зыбь необязательных мыслей, провоцируя отдаться внутренним импульсам и бегу шариковой ручки по влажной бумаге: интересно, что напишется через две, три, четыре страницы и на какое слово упадёт, уродливо расползаясь лиловой кляксой, новая капля?
Лукавый вопрос: надо ли о чём-то ещё (разумном, добром, вечном) писать, когда вокруг столько привлекательных мелочей, когда так гладко пишется «ни о чём»?
Узкий длинный листок выхватил ветер из трепетной занавеси плюща… Листок медленно, покачиваясь, спланировал.
Вот и ссылка, вот-вот: ловить ли бороздящий воздух листок, любоваться ли листьями из воображаемого гербария и записывать то, что видишь, думаешь, чувствуешь, как записывал то, что почему-то теребило ум, Василий Розанов, писатель-философ с лавиной пёстрых (порой препротивных) мыслей, занося их в тетрадь где придётся и помечая в скобках: за нумизматикой, на улице, СПб – Луга, вагон. О «чём» же и «как» пишет он? «Шумит ветер в полночь и несёт листы… Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства, вот и решил эти опавшие листы собрать в короба. Зачем? Кому – нужно? Просто – мне нужно. И много всего нужно разного».
Что за гомон и весёлую возню затеяли птицы в виноградно-плющевом занавесе? Взрыхляют мокрые листья, щебет, трели, гам. Прошили-простегали листву солнечные лучи, пятнисто разбросали акварельно-прозрачные зеленоватые тени, и – подожгли рюмку, нетерпеливо заёрзали по пластмассовой столешнице, каменному полу, пористой, из туфа, стене буфета с глянцевой – снятой с вертолёта, – дивной сине-зелёно-голубой панорамой курорта, забрались в пепельницу, высушивают бумагу с кляксами, и можно, позабыв о творческих муках, весело подпевать птицам, созерцать непристойную пляску бликов, радоваться, хлопая в ладоши: дождь прекратился, сквозь клочковатую рвань улыбается солнце, а над блещущими ноздреватыми плитами набережной клубится пар. Хорошо, можно на минуту-другую позабыть о тетрадке и смотреть не без зависти, как за глиссером (выстояв очередь и заплатив рубль) проносятся лыжники.
Одни, новички в спасательных оранжевых жилетах, корчатся в нелепых позах преодолеваемого испуга: напряжение неумелости.
Другие научились держаться на вибростоле воды и, набираясь уверенности, гордо машут знакомым.
Третьи – виртуозы, в руке фал, свободная рука непринуждённо отлетает в сторону на крутых, вспарывающих лыжным плугом волну виражах. Совершенство?
Для прозы, однако, совершенство недостижимо, прозе, оказывается, много всего нужно разного, если же речь о каких-то критериях качества, то нет их, критериев для всех, они сугубо индивидуальны; можно лишь предположить, что прозу всякий раз формирует особое сочетание неумелости-наивности, уверенности-самоуверенности и виртуозности, чтобы всё-всё-всё чудесно срослось: как в жизни.
Вот и несводимость начал, задач, вот и новая разбалансировка целей, спор смыслов и стилей…
Сочетая разные – сущностные и формальные – разности, стоит ли открещиваться от влияний?
Соснин настолько вдруг осмелел, что уже упрёков в подражательности и даже вторичности не боялся, во всяком случае, сейчас. Что будет с его предпочтениями потом – посмотрим, сейчас его идеалом была эклектика.
И ещё.
Отточенность, отглаженность, дистиллированность стиля можно похвалить, попытаться перенять даже, можно над такой зачищающей всяческие шероховатости старательностью и посмеяться… Ох, ветер, музыка из транзистора: листья желтые кружатся, падают, только успевай подбирать, вот один желтовато-зеленоватый еще, но с коричневыми пятнышками листочек и на раскрытую тетрадь опустился.
– Аскольд Васильевич, читали пародию на изумрудный наш… забыл, какое слово-то ещё в заголовке?
– Венок! Только, по-моему, алмазный, а не изумрудный.
– Да, да, правильно, и ещё, кажется, не наш, а мой…
– В-в-верно, и в-вспомнил, н-не венок в-все-таки, а в-венец, не исключено, что это строчка из Пушкина, в-в-впрочем, не р-р-ручаюсь за т-точность, не важно…
– Конечно, Роберт Фёдорович, не в том суть, венок ли, венец, ну так как, вы читали пародию?
– Д-да, о-о-остроумные с-стихи.
– Нет, я имею в виду прозу, всего пять страничек, но остро и точно, убийственная характеристика новомирской псевдосенсации.
– Не у-удивительно, А-а-адочка, эту в-вещицу зарапортовавшегося на с-с-старости лет В-валентина П-п-петровича легко п-пародировать. (Из диалогов в автобусе; перегон Дом творчества кинематографистов – «Литфонд»).
А то, что пишется сейчас, легко пародировать?
Еще бы!
Влияния, разумеется, чувствуются, их не спрятать, только индивидуальность – сильнее. Вот трое – каждый по-своему, но блистательно – разработавших разные пласты языка, умевших в комбинациях слов выявлять их исчерпывающее значение.
А заголовки сами по себе, заголовки?
«Дар», «Котлован», «Мы» – смысловая весомость, ёмкость одного слова, которое делается концентратом-аналогом всей вещи!
Соснину, однако, всё чаще хотелось думать, что «это было, было и прошло», что в пору молодого натиска аудиовизуальной шпаны (квазихудожественного примитива, не способного к самовыражению вне видимой феерии действия) и ослабления слова, писать стоило бы как-то иначе, извлекая затруднённые, неявные звуки…
Нда-а, опять путаные намерения, но – вперёд?
Главное, уже думал он, перепрыгнув через славное прошлое литературы, искать свою точку зрения – откуда выглянуть? Куда заглянуть? – пока контекст не пробудит в инертных фразах символические значения и не сложится (как бы сама собой?) отражённая и преображённая в борьбе мысли и слова форма.
Однако возрастание семантической роли связей между элементами текста не означает отказа от воздействия на восприятие самих элементов, семантику связей лишь надо представить-подать иначе – выделить, не балуя лёгким успехом курсива, а без пререканий поощряя в каждом слове, строчке, абзаце болезненно самолюбивое стремление к выделению, самоопределению… уфф, о чём он?
Перечеркнул несколько мутных фраз.
А о чём думает он (хронически неудовлетворённый собой) сейчас?
О том, что хочет писать не так, как уже писали до него, не так, как писал он сам на предыдущей странице, которую только что закончил (временно одолев себя) и (со вздохом) перелистнул, короче – хочет писать лучше, чем может?
Похвально.
Время идёт, и литературные кудесники психологического анализа, не выдерживая в новом веке конкуренции с психиатрами, бросаются в клоунаду, сатиру или – вот путь! – замыкаются в формальных поисках: комбинаторные игры, словесный поп-арт, пасьянсы из знаков.
И в чести художественная хиромантия – поиск линий жизни на бугристой ладони времени, узоры, узоры, пересечения траекторий передвигаемых внутренними и надличностными силами фигур, эстетическая самоценность судеб.
Поэтизированный блеф прозы с ворсистой фактурой бездействия полнится намёками, завязками ассоциативных ходов, набухающими в тягучей загадочности почками смыслов, смутными обещаниями развернутых, опоясывающих метафор; воздушность прошелестевших ветерком слов и тяжеловесность страниц; ориентированное, казалось бы, напряжение, но – не понять, что именно направляет его и поддерживает: внешне ничего не случается, растёт только ворох сомнительных векселей, мечутся в поисках лучшего места меченные контекстом слова-атомы, множатся, коченея на учиненных беспечным ветерком сквозняках, обрывки каких-то чувств, намерений, состояний создающей и пожирающей нас внутренней жизни, рефлексии. Волнующая, сладкая, как истома, горечь потерь, терпкость прощания (мысленного, слава богу! Посмотрим ещё, случится ли настоящее прощание-расставание), и неожиданно прокалывают острые, с привкусом талого снега в тропиках воспоминания, и прошлое смеётся и грустит, и злоба дня размахивает палкой, и буравит тревогою ожидание предстоящего, а чего ради может понадобиться столько слов – никак не понять истекающему желанием высказаться автору.
О, желания, замах (отваги не занимать) – ого-го!
И рябит в глазах от букв, слов, строк, абзацев, и пока неясно, к чему же приведет компоновка, – вербальное сооружение возводится без проекта; нельзя до дверных ручек спроектировать город, задохнется в скуке, по схожей причине и писать стоило бы на вырост, не боясь разнородности, монтировать по коллажному принципу кусок текста за куском, загадывая, уточняя и ломая свои же схемы, пока не соберётся (спорящий с самим собой?) массив текста и в болезненной адаптации к раскадровкам многосерийного замысла не прорежется композиция… Всё слишком сложно замешивается, чтобы предвидеть, что и как должно получиться, не представить даже, какой к роману подойдет заголовок.
Выбор?
Между жизнями?
Вынужденное (чем?!) прощание?
Протокол ожиданий? (Чего?)
Преждевременные мемуары? (Зачёркнуто.)
Опись потерь?
Колебания в пустоте? (Точно!)
Сентиментальные сновидения? (Плохо.)
Цветные нитки (те, что выдёргиваются из судьбы)?
Нет, нет, всё это скорее сгодилось бы в подзаголовки…
На качелях?
Неслучайные впечатления? (Да, неслучайные!)
Нет, не подходило, не сходилось клином, не присваивало безоговорочно право занять белое поле листа над всем, задать ноту, движение, породить контекст, продиктовать образное строение, завязать узлы, раскроить ситуации, чтобы в вихревом развёртывании текста испытать обратные влияния, впитать, как губка, новые, на ходу догнавшие смыслы, расшириться, разбухнуть, наполниться, вступить в игривый флирт с подзаголовком (если появится), первой, одиннадцатой, последней фразой, системой разбивок, перебивок, отступлений и снова значимо, солидно, царственно застыть на обложке, обнимая, благословляя книгу, но и дразня её тоже, внушая лёгкое недоверие не только ко всему сумасбродно наплетенному в ней, но и к своему, никаким законом не подтвержденному праву на исключительность.
Сначала – впустить призрачный, тающий на глазах туман собственных мыслей в глухие (если повезёт, гулкие) тупики книжных умствований, сплавить глуповатые, сонливо-благоговейные, иногда безвкусно-яркие пейзажи воображения, душевную сумятицу, ужас, неловкость, стыд, половую распущенность и политическую неблагонадёжность, запой, буйное и тихое помешательство, детский негативизм, старческую привередливость, прискорбное отсутствие авторитета, имени, репутации, шаткость эстетических позиций, бескорыстие, интуицию, растерянность, бессилие, малодушную веру в подкрадывающиеся приметы, рассеянную улыбку равнодушно отказывающегося от предписаний врача пациента, звериный аппетит к жизни, искусству, красоте, лакомствам, инфантильность, неприкаянность, скованность духа, подвохи, обманы, правду, ничего кроме правды, игру в правдоподобие, прихоти, хвастливость, шалости, подозрительность, неполноценность, угрызения совести, мнительные оглядки, исключительность, авантюризм, мизантропию, злость, весёлость, шутку, розыгрыш (и ещё раз – розыгрыш!), резонерство, снобизм, эстетство, камуфляж филологических штудий, скепсиса, словоблудия, доверительного тона, жалобных, с мольбой о сочувствии интонаций, безмерного сострадания к самому себе, паломничества в себя, в гнусные бесконечные миры прозябания, раздвоение, растроение, раздробление, самопринуждение, самопожертвование, самообнажение, самоуглубление, самоотречение, саморазвенчание (клякса, ещё клякса)………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… истязание (бичевание), саморасщепление, саморазрушение, самообуздание, самомоделирование, самолюбование, самовосхваление, самоотдачу (цель творчества), самовыражение городского анахорета, терпеливую – по подсказкам и наитию – реставрацию (имитацию) прошлого, препарированные ощущения, меланхолию, продление сладостного умирания души, внезапные чудеса оживления, ловлю флюидов, трансцендентные кошмары и сладкие воспарения, нецензурно-своевольную трансляцию индивидуальных желаний, переживаний, художественную искушенность, тягостную эксплуатацию мифов, чужих строк, всего, забивающего интеллигентскую голову культурного мусора, попытку пробиться зелёными побегами сквозь заложенные давно фундаменты, патологический интеллектуальный эгоизм, солипсизм, демонические пороки, ригоризм и снова – резонёрство и иррациональный гротеск, идеализм, нигилизм, независимость от политической конъюнктуры, поэтической моды, скованность её знанием, декадентскую вседозволенность, восприимчивость, боль, отягощение прошлым и будущим, невесомость в настоящем, непатентуемое умение выманить из темноты, подманить, заманить смутно брезжущий смысл и – поглотить его художественной структурой, считая всё это (скопом и вразнобой) исконным (для себя) условием сочинительства.
Испытал включённость в материал, обрёл понятия (свои, для себя), но едва расширял обзор, пытаясь по-новому, иначе, описать лицо, явление, предмет, как понимал (и то хорошо!), что усвоил не исчерпывающие понятия об объекте, а всего лишь собственный и всегда недостаточный понятийно-языковой аппарат мысли, алчно кидающийся на поиск дополнительных средств выражения, обрекая себя в каждый момент всё начинать заново, чтобы подступаться к замышленному объекту с разных сторон снова и снова.
И ещё об аналогии.
Всякое здание строится по проекту.
А тягучие, кажущиеся необязательными рассуждения о письме, о способах (всегда индивидуальных) преодоления препятствий складываются мало-помалу в проект романа, дополненный ещё и («роман романа»?) внутренне конфликтной пояснительной запиской к нему.
Поисковая обречённость художественного сознания упрямо перетекает в обречённость не достигающего ясности истолкования, единственная (иллюзорная!) возможность которого сообщить что-либо законченное каверзно обусловлена принятием некой системы аксиоматических ограничений. И вот весь творческий пыл растрачивается на их выбор. Слова, слова, полный рот распухшего языка (кляп?), и равносильно это его, языка, отсутствию, немоте: не высказать, не выдохнуть смысл – копятся лишь скучные слова про запас. Надо обосновать как-то выбор ограничений, и никак не перейти к сути, не начать. Увязает в формальных приготовлениях; смысл, идея, форма, содержание, похоже, сводятся к психотехнике самонастройки, к бесконечной заточке карандашей: сломаешь грифель, порежешь палец – событие!
А ещё поджидает философски неотвратимая третья обречённость – общения: поймет ли кто-то сбивчивые твои объяснения?
Так получился заколдованный круг: единственным реальным шагом, который он, оказавшись перед выбором, вопреки сомнениям своим смог предпринять, было заполнение словами этой тетрадки.
Собственно, этот растянутый на отпускные недели шаг и стал его шансом.
И опять двадцать пять: зачем?
Самое время хоть теперь бросить увязающую в невнятице писанину. Если вызов получил – а это факт! – не лучше ли неправильные глаголы учить?
Отпуск вот-вот угробит; что-то настрочил, много, быстро, не без находок, но – продолжать?
Дело вовсе не в том, что (непривычна зеленая паста авторучки, надо бы заменить стержень на фиолетовый) не будут интересны эти посаженные на протёртую философическую подкладку пассажи. Умозрительность, казуистика… Для себя писал, и сколько бы ни морщил лоб, пытаясь выбираться из психологических тупиков, а зимой, всего через несколько месяцев, их, пассажей этих, собрание, вопреки их натужной серьёзности сам сможет воспринять как нечто скоротечное и необязательное, как бумажно-чернильные отходы курортных романов: номера не нужных в городе телефонов, с трудом припоминаемые, уже докучливые подробности (кадрил на пляже? Танцевал на верхотуре в баре «Руна»?) – ну и слава богу, продолжать-то зачем?
И всё неясно, аморфно: месть внежанровой прозы.
Дневник?
Вот именно: облака – с натуры, силуэты зданий – с натуры, пусть и с какими-то добавлениями «по памяти», и конечно, цветные нитки…
Нет последовательности достоверных событий.
Что было, что случилось – так, туман: среда смутных лет.
И сплошь тонкие материи: изнанки, подкладки…
А тонкие материи – неизбежно? – скользкие, точней, ускользающие.
Беллетристика?
Куда там! Нет ничего дальше: сюжет, едва завязавшись, в ожидании занимательных событий провис, интрига, едва наметившись, выдохлась, эка невидаль – типовая ныне бытийная маята: ехать – не ехать и, соответственно, покупать гжель и палех – не покупать.
Эссе?
Такое бессвязное?
Да ещё с перебором громких слов?
Но ведь и не о чистом искусстве речь…
Откровения?
Хватил… Откровения остаются таковыми, пока не выговариваются вслух, пока не доверяются бумаге…
И о чём же художественно насущном, важном способен поведать сумбур индивидуальных сомнений?
Этично ли не претендующий и на толику интеллектуальной значимости стриптиз выдавать за оголение нервов творчества, пружин искусства? Тем более что в нашей ханжеской культуре нет эстетизированной традиции раздевания, хорошо ещё – никто не прочтёт, а то бы засвистели, скрутили и повели, злобно сопя, в отделение, как нудиста с общего пляжа.
Нонсенс: самокритичный Нарцисс глядится в зеркало и остаётся недовольным собой. Сомнительные отношения с соперником-двойником (соавтором? соглядатаем?), попытки спихнуть с себя на себя ответственность. А ещё – конформирующий еретик, торопливый пешеход, прикованный к перекрёстку: все четыре угла манят, во все стороны тянет, а переминаясь, порываясь шагнуть, лишь заносит ногу и стоит на месте – даже жанр письма предпочесть-выбрать не может, пробует разные, имитирует, повторяет (по-своему!), ищет… Но может, эта невнятица и есть его жанр, отвечающий его внутренней сути беспутный путь? Ничего готового, найденного, отстоявшегося; непрерывное, текучее становление, навсегда размягченный костяк смысла; курьёзно захламлённая лаборатория, вызывающее справедливые протесты общественности путешествие на (за?) край искусства – сколько до него было уже самозванных первопроходцев, но, может быть, он свой край ищет?
Да, распогодилось… Надолго ли?
Солнышко продавило плющ, хлынули под козырёк, запрудили кафе прозрачные зеленоватые тени. Море поблёскивает в прорехах колеблемых бризом листьев, и впору вообразить зимнее подведение итогов: он дочитывает затрёпанную тетрадку, а в узком стекле балконной двери артистично организованный мир, брейгелевская идиллия – посеребрённые инеем густые ветви коренастых деревьев, ультрамариновая лыжня, снежный вал, окаймляющий замёрзший пруд, пёстрая круговерть детей-конькобежцев на планшете льда. Подошёл ближе к балконной двери – кадр расползся, с вороватой поспешностью вобрал в себя, что попало, разбросал в пустоте: стучит, болтается на стыках трехвагонный трамвай, пробка у светофора, жирно дымят высокие трубы ТЭЦ за полосатыми коробками… Какой там Брейгель, рядовая иллюстрация к пустырной блочно-панельной скуке, как посмотришь – то и увидишь…

