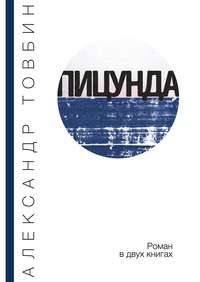
Пицунда
Солнечные часы объявились в колыбели цивилизации: человек родился и…
Небесная механика навязала культ ритмической непрерывности и – непревзойдённый эталон точности.
С постоянной скоростью ползла тень шеста – солнце не гасло, не останавливалось.
Но время исчезало между заходами и восходами солнца.
Терялось в пасмурные дни, когда небесное светило окутывали сгущённые пары атмосферы.
Непрерывность времени помогли вернуть огонь, вода, песок.
Закоптили фитили из металлических палочек, обмазанных дёгтем, присыпанных опилками… Зажглись, колеблясь, огоньки свечей: свечи оплывали, таяли вместе с убыванием ночи – свечи-часы, огарки-минуты.
Полусферическая чаша с небольшим отверстием в дне, через которое вытекала вода, – капли-секунды.
И сыпался, сыпался из колбы в колбу песок.
Тончайший песок… Если точнее – порошок чёрного мрамора, просеянного, промытого водой, прокипячённого в вине, высушенного на солнце.
Как просто: надёжность с гарантией.
Какой образ: пылевидные молекулы времени!
Недаром песок мне давно казался идеальным измерительным и выразительным материалом!
Впрочем, я забежал вперёд.
Задолго до изъявления песочных восторгов мне приглянулась в местном, руководимом Нодаром краеведческом музее при храме копия старинных, сработанных с восточной изысканностью часов с флейтовым сигнальным устройством и указательным механизмом в виде четырёх павлинов.
Внизу, в центре сине-розовой росписи по эмали, игравшей роль циферблата, – павлин в фас; над ним – два молодых павлина в профиль, глядящие друг на друга, ещё выше – пава, она медленно, в течение получаса, поворачивается на 180 градусов клювом.
Минуло полчаса.
И оба павлина под павой, начав двигаться, заходятся громким, скрипучим свистом, нижний павлин раскрывает пёстрым веером хвост, пава возвращается в исходную позу. И так каждые полчаса – число получасовок показывают красные шары, гирляндой бус повисающие над птицами.
А позади квартета пернатых спрятан каскад – из бачка вода льётся в сосуд, опрокидывающийся при наполнении в ванночку, откуда струя падает на лопасти колеса, через передачу соединённого с павлинами, с язычком флейты…
Несколько громоздко, но забавно и поучительно – железное сцепление ёмкостей, колёсиков, передач.
И красочная иносказательность, не без жеманства эту механическую сцеплённость прячущая и представляющая.
Не ново: пряча личину, мир доверяет выразить её театру.
Однако даже непритязательное, обслуживающее циферблат зрелище угловато-яркой павлиньей грации знобит обновляемой день за днём догадкою о том, что и все человеческие комедии и трагедии, непрестанно врывающиеся в обжитой мыслью и чувством мир, сведены в метаспектакль, сверхзадача которого – самовыражение времени.
Долой ледяную астрономическую величину!
Время не существует вне представления, разыгрываемого людьми-актёрами на сцене жизни и тянущегося из эпохи в эпоху, сменяя лишь декорации и костюмы.
Времени вообще нет вне нас, как нет, к примеру, тайной мудрости шахмат вне клетчатой доски и резных фигур.
У раздвижной решётки, по усмотрению охранника преграждающей при нажатии кнопки автопуть сквозь сосны к вспененной синеве, бессменный начальник охраны орёт на ёрзающего в кабине «Жигулей» потного толстяка, который посягнул без пропуска на стекле или приказного звонка на вахту осквернить колёсами запретную территорию. Крючконосый, седоусый, пятнисто-красная, изъеденная прединсультными фиолетовыми прожилками кожа, жилистая загорелая шея… Всё, номер не удался, манёвр разжиревшего наглеца, пожелавшего проскочить мимо священного поста без разрешения свыше, пресечён, можно с чувством выполненного долга повернуться к исчерпанному инциденту тёмным, вроде музейной керамики, растрескавшимся загривком, отрывисто-шипяще скомандовать закрывать: пусть следующая машина подождёт, униженно побибикает… С повизгиванием – будто ворота тюрьмы, а не всесоюзного курорта сейчас сомкнутся – ползут навстречу одна другой по желобку, заделанному в асфальт, сварные створки решётки. Всё как всегда, бравого Тамаза Герасимовича не берут годы, верный вышколенный служака из несломленной гвардии гэпэушников-энкавэдистов-кагэбистов и на относительно безобидном, совмещённом с пенсионными льготами посту по проверке курортных карточек и автомобильных пропусков не желает менять обличье, экипировку: он в щеголевато облегающей, неснашиваемой, словно только-только сшитой бежевой габардиновой гимнастёрке с большими накладными карманами, которая туго подпоясана ремнём с надраенной бляхой, на нём галифе цвета морской волны, начищенные до блеска короткие хромовые сапожки на плоской тонкой подошве, словно нарочно вытачанные для профессионально-вкрадчивых удобств мягкой, рысьей походки. И, как всегда в это время года взамен летней фуражки с обтянутым материей козырьком, удачно скопированной с той исторической, полувоенной-полуштатской фуражки, которая так шла другу детей и учёных, на голове Тамаза Герасимовича, знаменуя приближение унылой зимней поры, ловко, как-то молодцевато даже сидит невысокая, слегка расширяющаяся кверху этаким раструбом серокаракулевая папаха-кубанка, на суконном верхе коей, когда Тамаз Герасимович, набычившись, укоризненно наклоняет голову, дабы попенять утрату бдительности вылупившемуся на форсистых девах младшему охраннику, обнаруживается нашитый золотисто-жёлтой галунно-жёсткой тесьмою крест.
Недостойный толстяк, сконфуженно газанув, окончательно избавляет тихий отдых избранных от бензиновых выхлопов и прочих рисков автовторжения. Тамаз Герасимович переключает скучающее внимание на пешеходов, но, полоснув Илью с Митей – они как раз пересекают заветную границу с решётчатыми воротами для автотранспорта, калиткой и бетонной пилонадой на военный манер оборудованного форпоста, – лезвиями прищуренных, проржавленно-стальных глаз, даже не делает напряжённо-настороженной стойки, не шевелится. Четвертовал неугодных в расцвете молодых и злых сил, на старости лет тоже не собирается разоружаться, за версту от охраняемого рубежа чует тех, кому не подобает слоняться в огороженном под боком госдачи месте, летом бы на выстрел не подпустил, однако осенью из-за полулегального просачивания пеших чужачков он не будет драть глотку, распускать руки, папаха – добрый знак, да-да, осень, октябрь… К тому же цепкая профессиональная память помогает Тамазу Герасимовичу увидеть в Илье и Мите старых знакомцев и даже еле заметно, но чуть ли не царственно, кивнуть им в ответ на их заискивающие, по правде сказать, кивки; примелькались за много сезонов. И вообще пора самому себе дать отмашку – с октября бесправие дикарей негласно смягчается относительной свободой передвижения по территории курорта, охранники на вахтах и вышибалы в общепите и злачных заведениях с октября на них лишь лениво косятся, ибо содержимое тощеньких дикарских кошельков заранее учтено-скалькулировано планом выручки киосков, кофеен, баров, терпящих убытки после того, как схлынет летняя, сорящая большими деньгами привилегированная волна. – Смотри-ка, смотри, – Митя хватает Илью за локоть, – наш подобревший цербер ещё и сентиментален, смотри, не выкинул эту рухлядь, – в глубине сторожевой будки, над стенгазетой «На страже» смиренно тикают ходики с кукушкой; перечёркивая красный заголовок стенгазеты, свисают гирьки…
Развитие часовой техники лишало время таинственности.
Время растворял быт, время как бы не замечали, но его чуткое активное присутствие рядом становилось естественным, непременным, само собой разумеющимся.
Время, время… Сколько метаморфоз восприятие времени претерпело, реагируя на способы и формы его измерения.
Какой покой внушили механические часы!
Настенный домик с плоским золотом маятника, баюкающего плавно-умеренной амплитудой, музыкальным боем.
А солидные увесистые карманные луковицы?
А брегеты?
А ручные ювелирно-изящные часики с крохотными, рифлёнными по ободкам, заводными колесиками?
Дальше – больше…
Высокомерные электронные глазищи с пугающим выскакиванием из ниоткуда цифр, знающих свой порядок.
Табло с нервозным мельтешением лампочек.
И ещё – назойливость службы точности.
Уши закладывают сигналы точного времени: проверь, подведи…
Даже во сне – страшном, фантастическом, чарующе-сладком – я не свободен от времени: на пике захватывающего сюжета сновидения барабанную перепонку бесцеремонно пробивает будильник.
Милка налетает огненным вихрем, ур-р-р-ра, ур-р-ра, давно пора тебе приземлиться, а то Митька вконец замучил – не прилетел? Не видела? – но ко времени прилетел, ко времени. Тамаз Герасимович без проблем пропустил, правда? И погода отличная будет, смотри – Милка вытягивает руку в сторону медленно подползающей дизельной подводной лодки. Да, прибытие из Балаклавы на рейд госдачи этой подводной лодки, обеспечивающей защиту госдачи от морских диверсантов-аквалангистов НАТО, воспринималось опытными курортниками как самый надёжный прогноз отличной погоды: лодка ритуально появлялась накануне прибытия на отдых, обязательно – на солнечный отдых, партийного гостя высочайшего ранга. – Ой, измотался за год, задохлик, цыплёнок синенький, огурчик зелёненький, ничего, отогреешься, поджаришься-зарумянишься и, – тараторила Милка, – не соскучишься. Владик здесь, косяки ставриды преследует, Воля, Геша, Валян кейфуют из последних силёнок, жаль только, что ты опоздал на пикник, на день всего опоздал, вчера за третьим ущельем Гурам с Гией обалденный пир-пикник с молочным поросёночком закатили. На пикнике ещё и Любочка блистала на новенькую, это говорливое украшение сезона, поверь, даже Волю играючи затмила своими историями… – Я уже видел её сквозь витрину почты, – умудряется вставить слово Илья. – Видел? Митька показал? – удивляется-догадывается Милка. – А уж когда Любочку услышишь, оценишь по достоинству. Но берегись её сладкоголосия, берегись, – затряслась от смеха. – а в воскресенье праздник Нептуна с самодеятельным маскарадом разбушевался, так Пат осьминогом вырядился, резиновые зеленоватые щупальца выпустил, Жанулю на ступенях курзала-столовой как обхватил-обвил, как потащил в подводное царство, будто верный сатрап Нептуна, а морские коньки, его ассистенты, скок-скок по бокам, скок-скок, – глаза Милки горят, словно глаза ребёнка, заглядывающего в дивный аквариум. – ты Жанулю-то помнишь, ну ту, златоглавую богиньку, мисс-мыс, которая всех-всех курортников покорила, заставила пускать слюни, потом на несколько сезонов исчезла, а сейчас опять объявилась. И опять как с картинки, А-а-а, – раздался фырк дизеля и лязг металла, с подводной лодки бросили якоря, – посмотри-ка ещё и на подарочек модерновый, электронное табло к крыше кафе подвесили минутки отщёлкивать…
Истинные свойства времени внятны одним поэтам.
Как же, как же не помнить, когда глаз не отвести было. Встречали-провожали с любопытством и восхищением, хотя интуитивно сохраняли дистанцию, причём изрядную. На что уж Митя не дурак приволокнуться, а оробел, как школьник, – золотые локоны, серые сердоликовые глаза, бархатная спина в треугольном вырезе платья. Все, кому не лень, в баре «1300» пялятся, а не шелохнутся, не один Митя к стулу прирос, голову откинул, выпятил подбородок, всякие там вздохи, поглаживания пронзённого сердца изображая… Да так и остался с носом, не решившись атаковать. Танцы-шманцы-обжиманцы, звон стаканов, дым коромыслом, а мальчик мается безответным чувством, а Воля и Вахтанг, непревзойдённый тандем трепачей, всегда готовых поизмываться над ближним ради общего весёлого блага, растравляют плосковатыми шуточками потерпевшего, салфеткой обмахивают, как боксёра после нокдауна. «Митька, Митька, где твоя улыбка?» – гнусавят шлягер молодых лет, славят пришествие в приморский, на 1300 персон, вертеп Прекрасной Дамы. И – припадки очищающих вздохов, молитвенно возносящих душу, ибо, подсказывает Илья, и самому страстному телу не дано заключить в объятия символ. «О-ля-ля, – зажигается Вахтанг, шоколадные глаза плавятся, – спешите видеть, перед вами высшая синтезированная форма текстильной, кожевенной, парфюмерной материй, подогнанная к высочайшим шаблонам последней моды, но не менее прекрасная, чем тепломраморные тела Эллады…» – «Па-а-пра-шу внимания, – шарахает ладонью по столу Воля, дрожат напитки, бренчит посуда, – прелестный символ, пусть его и обнять нельзя, надо назвать достойно…» Ох, отдуться бы от танцевальной скачки, остыть, так нет же, другого рода азарт вскипает: хрипнут в дебатах, наперебой подбирая имя для загадочной незнакомки – Жанна, Регина… «Но, – вразумляет Илья, – конкретное земное имя умерщвляет символику, что-то иное для совершенного, если хотите, неземного этого существа надо изобрести». Тут-то Митька, стрелой пронзённый, выходит из гипноза, выдавливает: мисс-мыс, и взрывается овация в честь победительницы конкурса красоты. Превосходная кличка, с тех пор – как приклеилась, хотя Жанулей, Региночкой её тоже по инерции какое-то время звали, да и сейчас, бывает, зовут. Однако заслуженная, клёвая кличка так подсветила обычные имена и их уменьшительные, ласкательные производные, что стали все они нарицательными. Ещё бы, прекрасна, холодна, недосягаема, как звезда из чужой галактики! Помимо Митьки, который с полной задора и огня улыбкою расстаётся и отбой, перетрусив, бьёт – мол, такому совершенству не соответствует, многие сомнительные искатели любовных приключений по-прежнему роятся, роятся вокруг мисс-мыс, а и их будто бы ветром сносит. Пару раз она с Реном в «Руне» за «главным», у декоративного очага, столом обедает, но, разведка донесла, без последствий. Ожохину, хоть частенько натаскивает её на корте, тоже похвастать нечем, а этот-то похотливый амбал своё не упустит. Даже Яшунчик-адвокат, лысеющий ширококостный жуир с развязным языком и хамоватыми ухватками не знающей проколов юридической знаменитости, и тот – в сторонку, в сторонку, будто забастовка у несгибаемого бойца интимного фронта, – закатывает малахольно зрачки, когда мисс-мыс, как мечта, проплывает мимо: мол, высший сорт, экстра, однако же – пас. Что в солнечном подлунном мире творится, неужто прожжённые ловеласы обнаруживают платонические уголки в глубине изношенных душ, ведь, невзирая на ангельские черты лик прелестницы не внушает трепета, скорей приманивает сексапильностью сполна испившей порока женщины, победительно-легко сходящей в расейский раздрызг с иноземных демонстрационных помостов: яркая, не боящаяся нескромных взглядов, всё-всё в ней приманивает, хотя что-то – наверное, звёздный сквознячок, какой несут с собой абстрактные идеалы, – и отпугивает, взывает к осмотрительности.
Стоп!
Если повседневный быт, как повелось издавна, низводит высокую абстракцию до карманного, наручного или настенного счётно-измерительного прибора, если бег стрелок по циферблату этого прибора, худо-бедно одухотворённого затейливостью дизайна, – единственная постигаемая реальность, которую можно увидеть и даже услышать, когда бег стрелок ещё и синхронизирован с периодическим боем или мелодичными перезвонами, а самоё время как извечно-беспокойная тайна – всего лишь средоточие поэтических вольностей, то…
Защекотала шаловливая мысль: не помыкает ли рукотворный прибор-измеритель божественной природой измеряемого процесса, а заодно и формами его, процесса этого, самовыражения?
И почему бы не заподозрить, что не только душевная аритмия не подвластна внешним ритмам, предъявляемым нам часами как механизмом, но и неизбежные погрешности хода самых совершенных часовых механизмов ставят под сомнение плавную непрерывность времени…
Постигая время, увлекался…
А ведь электроника нависала тем временем над моими нестрогими рассуждениями: выпрыгивали на экранах и экранчиках цифры, загорались на табло лампочки, никакие ритмы вообще не воспроизводившие.
Вот – смущённо поднимал глаза – полюбуйтесь-ка вместе со мной: экран-табло, время, взятое в раму из уголкового металлопроката, подвешенное на двух железных крюках к бетонной крыше кафе.
Электроника и поэзия?
Увольте…
Шалунья-мысль, однако, не унималась! – Если время, словно режиссёр, прячущийся в кулисе, разыгрывает из наших жизней ритмизованные – декорированные, костюмированные – спектакли и, не чураясь театральных эффектов, под занавес превращает героев этих спектаклей в трупы, то и нам не возбраняется отдаться изобличающей проделки времени игре ума.
Илья беззащитен, с квёлой улыбкою покоряется напору нескончаемой информации. Мало ему Митькиных экспресс-новостей, так Милку понесло, никак не смолкнет. Далась ей бронзовая от загара мисс-мыс, ну исчезала, ну появилась… От избытка чувств Милка вцепилась в плечи, закружила, хохоча от глупого счастья, и тормошит, встряхивает. «Илюшка-а-а, хорошо-то как встретиться, благодать», – пылают на солнце, взлетая, густые Милкины волосы… Что творится? Тошнотворно-сладкое удушье поднимается изнутри, а руки, ноги обмякают, слабеют; уплывают куда-то вбок причал, роща, бетонное гофре над кафе, растворяется в молочном небе чёрный экран табло… Только торчат два крюка из крыши, которую воровато буксирует с глаз долой блёклое облако, на миг из панической толчеи разбегающихся предметов поочерёдно выскакивают на передний план белый столик с бумажным тюльпаном в вазочке, гранитный столбик питьевого фонтанчика, вытащенные на просушку белобрюхие глиссеры, но они, перечёркнутые напоследок барьером цветочных ящиков, подожжённые огнём герани, исчезают бесследно, заместившись сырым дуновением, – ненастье накрывает мокрым серым крылом. Проваливаясь куда-то, теряя ориентировку, Илья слышит издалека Митин голос: гололёд, занесло на дерево, всмятку, а невидимая Милка вскрикивает. Блестят залитые водой плиты набережной, клейкие бурые комочки земли темнеют у неровного края газона, чаща травинок усыпана капельками, к стеблю розового куста присосалась перламутрово-коричневатым костяным завитком улитка, и бьёт озноб. Промозглость, смешавшись с острыми запахами земли, травы, роз, пропитывает мгновение чужеродной, против воли растягиваемой длительности. Тяжело, невыносимо тяжело от набухания низкой тучи, но из давящих сгущений влаги вдруг узнаваемо возникает Милка. Она в свитере грубой вязки, охватывающем шею толстым, точно шина, воротником; ломается на Милке её видавший виды просторный жёсткий клеёнчатый плащ, который надевает она, когда проливаются дожди и снаряжает она экспедицию в Мюссерские леса за грибами. Сползают по плащу капли, волосы подёрнуты водяным туманом, а Митю, тоже высунувшегося из тучи, обтягивает вишнёвая водолазка, хотя он был только что в белой марлевой рубашке с оторванной пуговицей… И эта тонкая матово-белая рубашка просвечивает сквозь водолазку, а под плащом и свитером у Милки всё отчётливей проступают яркий, вырвиглаз, синий купальник и загорелая кожа. И хочется пить, хотя бы смочить пересохшие губы… И уже чистое небо теснит тучу, раскалённые зноем палево-румяные плиты наползают на мокрые плиты с лужицами, двоятся контуры, будто два сюжета сняты на один томительно долго разглядываемый в затемнении сознания слайд, в который возвращаются разбежавшиеся предметы. Резко повисает на крюках чёрный квадрат табло с пощёлкивающей суетливой цифирью, и резко приближаются Милка в купальнике, белорубашечный Митя, и падают на Илью их головы с оранжево-красным и чёрным контражурами, омытые жаркой безоблачной голубизной, и расплющиваются на груди горячие Милкины груди. «Сердце? Нет? Гипотония, наверное, вот тебя и шатает, кружит, меня тоже в Питере от перепадов давления водит из стороны в сторону, пока к морю не прилечу…» Илья не понимает, что было с ним только что, он уже сидит на скамье, у вороха Милкиных одежд, тупо рассматривает на газоне извилистые следы косилки. Митя бежит из кафе со стаканом сока; а собаки – ноль внимания на переполох – изнывают, высунув языки: жарища…
«Оклемался? Не ушибся?» – заглядывает Митя в глаза, а Милка лаваш и сулугуни достаёт из сумки, чтобы подкрепился Илья, и обмахивает веером его, покрикивает на собак, чтобы не полезли лизаться, выпрашивая угощение. И сыпет, сыпет какую-то чепуху: «Отошёл, слава богу, отпустил спазм, а если ещё хворь какая – травами отпою. И учти, в лидзавской тишине не укроешься, устроим прочёс, найдём. Я-то в корпусе маюсь… Тащусь с чемоданом, а Рен из окошка «Интуриста» увидел, не иначе как муха цеце его укусила, выскочил, рассыпался, чёрный козёл, в любезностях, говорит, Милочка, неувядаемая твоя красота – награда выше правительственной, в светлую память о наших встречах, которые никуда не вели, хотя я был моложе, лучше и мог составить тебе неплохую пару, прими скромный дар… Рен – может, с бодуна был или травы нанюхался? – обратный билет вручает, законным росчерком пера в “Руне” селит, хоть и не на восьмом этаже… – Милка растягивает брезгливо рот. – Угораздило меня приволье на похлёбку по часам променять, маюсь меж шахтёров-стахановцев, хлеборобов со звёздами героев, хлопкоробов в тюбетейках и прочих передовиков социалистического труда, разбавленных блатниками. А по вечерам у Элябрика со скуки дохнем, не то там теперь, не так, как раньше бывало, когда пол с потолком качались, – тараторит без остановки. – Я вас с Митькой засекла, как только вынырнули из сосен. Сижу, смотрю, ага-а, шагают двойнички, ну-ка, сцапаю цап-царап, – и опять исторгает эмоциональную бурю, словно впервые увидела, причитает: – До чего похожи, как две капли, вы случайно не родственнички? – и вдруг говорит: – Знаешь, четырёхсотлетнюю сосну сломал ураган?» И опять тараторит, тараторит – может собаки её внимательней слушают?
Только что мчались сквозь торгово-бытовой центр курорта – и уже греются на набережной, нежатся, свернувшись калачиками, развалясь на горячих плитах. А солнце всё выше, всё горячее плиты: нестерпимо жарко уже. А заводилы бездомной собачьей стаи – у Милкиных ног, липнут, будто Милка мёдом помазана. Но вот один, другой пёс встают, отправляются бродить, слоняться, лениво лезть носами под хвост друг дружке, этим вольным мигрантам курорта неведомы графики заездов-отъездов, пропускные барьеры… Набережная кормит их, широкая лестница, ведущая на балкон курзала, дает крышу от дождя, солнца, а сразу за курзалом, в роще, суки щенятся, вскармливают молодняк. Но повинуясь павловскому рефлексу, в часы режимной кормёжки курортников все собаки уже у столовых, чтобы урвать с послеобеденной щедрости. Если не наелись, попрошайничают на пляже, наконец, набив животы, укладываются на час-другой для пищеварения, пока внезапный, им одним внятный сигнал не сплачивает разморённых жарой засонь в резвую стаю. Потягивались, зевали и – вот уже летят, летят, как бешеные, словно там, за каменными извивами парапета, ждёт постоянное изобилие мясных костей, надёжность челевеческого жилья, которое им доверят стеречь. Летят, свесив на сторону чернильные языки, вперёд вырывается невзрачный беспородный заморыш с перебитою лапой, отороченный колтунной, грязно-красной бахромой ирландского сеттера, в которой застрял репейник. По всем статьям аутсайдер, а несётся, несётся выскочка, будто больше всех ему надо. И опять внезапно распадается устремлённая стая, опять умиляет невинными ласками групповых забав, искренними беспризорными объятиями, покусываниями, повизгиваниями, и вот уже пара, а то и две, три, смущая курортниц-профсоюзниц в кримплене, торопливо совокупляются, быстро охладевают, расходятся… – Пума, Пума, – почёсывает Милка за ухом чёрную старенькую догиню, возможно, и чистокровную, но растерявшую стать свою за долгие годы беспорядочных любовных связей, лишений. (Возвращаясь с Сухумского симпозиума по кибернетическим моделям, Владик завернул как-то в межсезонье проведать родное место и угодил на зимний отстрел четвероногих бродяг – пустынным пляжем, обезумев, бежала Пума, Баграт-хачапурщик под радостные возгласы пьяненьких зевак-профсоюзников палил из двустволки, подрабатывал, сукин сын, мало ему ворованного сыра и масла.) На ребристых боках Пумы протёрлись проплешины, от частых родов сосцы обвисли лилово-пепельными мешочками. Когда грубо гонят, кричат, Пума отпрыгивает с дивной молодой грацией, останавливается поодаль, давая нервному грубияну шанс опомниться, извиниться. И никогда Пума не попрошайничает, не пристаёт, молча ждёт, надеясь, что позовут, приласкают, не брошенного куска ждёт – тёплого слова, доверчиво смотрит, смотрит умными янтарными глазами, в них тлеет боль, нерастраченная преданность кому-то, кто ей пока не повстречался, но повстречается непременно. – Илюшка, – продолжает информировать Милка, – у меня радость, Варька на биофак поступила.
Время не безгрешно.
Почуяв неладное, искал улики в старинных книгах.
Их, проспавших века в пыли на богом забытых стеллажах, не по силам было притащить в читальный зал библиотечной барышне, и меня допустили к морёным полкам с фолиантами. Подымая иные – в толстых переплётах, обтянутые телячьей кожей, с пожелтелыми плотными страницами и поблёскивающими вклейками чудесных старинных гравюр, на которых воспроизводились часовые изобретения прошлого, – устрашался, что наживу из-за сомнительной своей пытливости грыжу.

