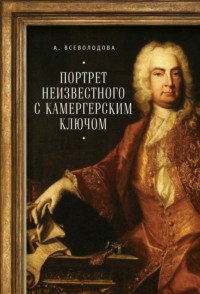
Портрет неизвестного с камергерским ключом
– А мне – напротив.
– Отчего так?
– Не люблю льстецов, особливо таких ловких.
– Есть такой грех, но заметь, никто другой лучше Фрола льстить не сумеет, и дело тут не в «лице и слоге», хотя и того довольно. Он удостоверительно то в сердце имеет о чём говорит. Сколько мил! Не диво, что в секретари угодил, и кто бы ему отказал. Разве совсем бездушный. Помнишь, давеча, хотел ты от меня добиться толку, что есть куртуа. В русском языке сего значения не находится. Изысканность, пленительное обхождение? Близко, да не то. Теперь говорю тебе, взгляни на Кущина и знай – он истиный есть куртуа.
– А какова дерзость, – подхватил с негодованием Родионов, припомнив вторжение Налли и её пламенное предложение своих услуг, – он именно меня выбрал объявить, что желает служить секретарём! Я это иначе как вызов принять не могу.
– А может он не знал, что ты обер-секретарь?
– Знал! Он не знает только, что до регул и артикулов имеет касательство, да римского суда с латынью, а до всего прочего так осведомлён, что и сказать нельзя. «Петенька горлом заболеет, если туман выпадет, и потому распорядиться надо, чтоб в его покое окон не открывали, а в соседнем, напротив того, открытым держали, потому как чистый воздух должен таки иметь к Петеньке доступ, однако, чтобы человек специальный надзирал, и до туману, окно то затворить успел», «парчовый камзол нельзя применять с шитьем серебряным, разве по темному платью».
– Понимаю о чём ты, но дурного в том Фролу не вижу. Петр Артемьевич часто горлом не здоров, и что же худого, если чей-то глаз столь к нему заботлив – матери ведь у него нет. И того не забывай, что Фролу как к чужому здоровью чутку не быть, если и сам им похвалиться не может. Заметил, как он всякого сквозняка опасается? Воды студёной не пьёт, камзола не расстегнёт никогда и шейный платок не снимает. А что до красоты платья, отчего бы о ней не порадеть, раз Господь к тому наделил способностью?
– Иногда и то даже в ум беру, что и к должности ходит только, чтоб показаться перед генералом, столько ему привержен. Когда в его глазах бывает, сияет, будто из петли вынули или вотчиной пожалован.
– И что с того? Все стремятся войти в «кредит», и Фрол тем же миром мазан.
– Что с того? А вот что – все стремятся, а иные – и входят. Вчера подаю Артемию Петровичу экстракт из Юста Липсия, а он посмотрел и говорит: «с каких это пор Липсий пишет в манере Лукиана»?
Читаю и глазам не верю – вместо экстракта из Липсия – экстракт из Фенеловых «Диалогов мёртвых». Артемий Петрович нахмурился и говорит:
– Такое рассуждение для того только годится кому всё одно – что Липсий, что Фенелон.
– Такое рассуждение, Артемий Петрович, годится только для того кто его составлял – для Фрола Кущина.
Артемий Петрович снова заглянул в бумагу и отвечал:
– Рассуждение таки не дурное, но только мне нужен Липсий. Составь, Иван, его сам и поскорее. А Фролу о сей конфузе не пересказывай – очень к сердцу примет.
– В том можно не сомневаться, – подтвердил де Суда, – огорчение вышло бы чувствительным, и я душевно рад, что Фрол его избег.
– Представь же, друг, сколь я был «душевно рад» когда его превосходительство мне приказал впредь и до конца года, проверять всё что не выйдет из-под пера сего Фрола, да так, чтобы он о том не знал и «к сердцу не принимал», и если найду надобным – исправлять, а ему, разными для него приятными способами, разъяснять его должность. По всему вижу выживет он меня с места.
– Напрасно, Иван Васильевич. Ведь ты Фролу в отцы годишься, мудрено ли, если годов через пятнадцать он и займёт твоё место? Греха не будет, коли он при нашем участии к тому изряден окажется.
– «Изряден», – повторил Родионов, сердясь оттого, что товарищ его не находил в рассказе о вхождении в «кредит» Фрола ничего угрожающего, – так изряден, что и за стол свой сажает.
– Не тебя же сажать занимать девиц, – возразил де ля Суда, – их четверо, одна младше другой, скоро станут невестами, а для обучения достойно и любезно с кавалером себя держать, лучше Фрола никого и вообразить нельзя. Скромен и приятен не только в речах и поступках, но и в голосе и взорах, а в обращении с девицами столько смел и непринужден, сколько один только брат родной быть может и при том столько же чист в мыслях. Удивляюсь даже, как он в юных самых годах такое умение приобрёл.
– Тебя только его превосходительству слушать – от него бы тотчас утвердительную резолюцию адвокатуре своей получил. А я прежде говорил и на том стою – нестоящий сей Кущин человек.
– Что ума не изрядного не отрицаю, – отвечал де Суда, приметя недовольство Родионова, – и что перед Артемием Петровичем искателен сверх меры то правда. Сам не знаю отчего не могу на Фрола осердиться.
– И тебя обошёл, – усмехнулся Родионов, – отчего его до сих пор нет?
– Пойду потороплю, – отвечал де Суда.
Но нашёл он Налли не вдруг и в месте где менее всего ожидал. По словам спрошенного Кубанца, Петр Артемьевич захворал и просил сестриц к нему пожаловать, а Фрола – развлечь их общество чтением. Когда де Суда взошёл в покои младшего Волынского, он увидал его лежащим на постели, с обложенною размоченным в уксусе ржаным хлебом головою. Анна и Мария занимались рукоделием по обе стороны от него. Налли, расположась на ковре перед пылающем голландской печкой, читала «Телемака»:
– «…если бы он также как некогда я был пастухом, так был бы и счастлив, наслаждался невинными сельскими удовольствиями без страха и без угрызения совести, не боялся бы ни меча, ни яда, любил бы людей взаимно любимый, не обладал бы несметными, бесполезными для него, как песок на краю моря, сокровищами – он не смеет к ним прикасаться – но, свободно питаясь земными плодами ни в чём не терпел бы истинной нужды. Он думает, что делает всё по желанию – обманчивый призрак! Он исполняет только волю страстей своих, терзаясь ежеминутно любостяжанием, страхом, подозрением. Думает, что царствует, а в действительности раб собственного сердца. В нём столько тиранов и повелителей, сколько неистовых желаний.
Так размышлял я о Пигмалионе, не видев его ни однажды. Он никогда не показывался и народ с ужасом только смотрел на высокие, денно и нощно обставленные стражей стены, где он, как в недоступной темнице, заключался с сокровищами от людей и от совести…».
Иван давно хотел прервать чтеца, но Анна Артемьевна всякий раз предостерегающе поднимала палец и указывала глазами на брата.
Де Суда осторожно затворил дверь и вернулся в канцелярскую, предоставив сообщением о новых обязанностях Фрола своему другу повод для дальнейших рассуждений об его удачливости.
Налли меж тем хотела было, встав за сестрами, собравшими свою работу, покинуть задремавшего Петра, когда услыхала его слабый голос, просящий ещё чтения.
«…я не стану упрекать тебя в погрешности, довольно того, что ты сам её чувствуешь, и пусть она научит тебя сдерживать впредь свои желания. Теперь надлежит вооружиться великодушным терпением…».
Глаза слушателя и чтеца слипались, но стоило Налли умолкнуть, как Пётр искательным голосом шептал:
– Фролушка, не покидай меня. Когда ты читаешь, я забываю о своём горле.
Налли снова принималась за «Телемака». Жарко пылавший огонь наполнял воздух приятной теплотою. Налли прилегла на локоть и продолжала едва внятно:
«…Истинное мужество, – отвечал мне Ментор, – всегда ещё находит способ к спасению. Встретить смерть с непоколебимым спокойствием – мало, надобно стараться отразить её с бодрым духом, со всеми усилиями…»
Когда Артемий Петрович зашёл проститься с сыном на ночь, он нашёл его крепко спящим. Мокрые пряди волос облепили лоб его и шею – жар весь из него вышел. На ковре, уронив голову в раскрытую книгу, спала Налли. Волынской перекрестил обоих и вернулся к себе.
* * *Несколько дней спустя, описанного выше разговора двух секретарей, их работа была прервана вошедшим в канцелярскую лакеем.
– Фрол Александрович, пожалуйте к генералу.
Налли вышла, оставшиеся переглянулись.
– Видеть не могу, как сей Фрол подходит к генералу с умирающими взорами и слащавым языком. Не придумаю, как ты его выносишь, – проговорил Родионов.
– Помилуй, Иван Васильевич, я кроме учтивости во Фроле другого не нахожу, – отвечал де Суда.
– Вот что, любезный Фрол, – заговорил Волынской, – есть одно срочное дело, не знал кому его доверить и лучше не мог придумать, как за тобой послать. В Москву наспех скакать нужно с письмом к обер-гофмейстеру Салтыкову, сроднику моему. Никому другому, я бы более объяснять не стал, но тебе, как ты усердней многих прочих и слов моих цену понимать можешь, добавлю: сие дело весьма мне важно. Оно старо уже и пересказывать о нём резона не вижу, а суть в том состоит, что несколько часов назад, как мне известно стало, что в Москву, где сейчас государыня пребывает, выехал чей-то посланец, с доношением о бывшей прежде у меня тяжбе с казанским архиереем. Уже тому несколько годов, как тяжба сия, милостивым её величества решением окончена, и не могу придумать кто о ней может теперь хлопотать, и что именно содержит доношение. Пока я здесь буду доискиваться ответов на сии вопросы, ты должен первого посланца упредить и ранее его быть в Москве у Салтыкова. А тот из письма моего знает, что и как довести до государыни, на случай если ей опять в руки попадёт что-нибудь до той тяжбы касательство имеющие. Если преуспеешь, окажешь мне тем не малую пользу, а ежели напротив…
– Артемий Петрович, вы не могли лучше распорядиться письмом, мне его поручив.
– Я и не ждал другого от тебя услышать. Вот тебе пять рублей в дорогу, пистолет (на дороге давно не слышно чтоб шалили, однако, не лишним будет) и письмо. Где дом Салтыкова отыскать тут всё указано. Подорожную Родионов уже изготовил.
Через несколько минут Налли сидела в седле огромного немецкого жеребца, а Волынской ходил кругом него, собственноручно проверяя подпруги и всю сбрую. Оставшись доволен своим осмотром, он приказал приторочить к седлу за спиной у Налли епанчу.
– Не смотри что тепло, – сказал он, отвечая на изумленный её взгляд, – я сам курьером не мало поездил, знаю что в дороге быть может. У нас ночи и летом суровы.
– Не совладеть ему с конём, ваше превосходительство, – озабоченно заметил конюх, державший лошадь под уздцы – он уж чует кто на нём сидит.
– Натяни повод, – приказал Волынской.
Налли рванула ремни, лежащие у ней между пальцами.
– Кто только тебя учил! Я б ему, бездельнику, показал, как не за своё дело приниматься. Ударь арапником. Сильней, не кошку гладишь.
– Неси «кошку», – слово надоумило, – приказал Волынской конюху.
Тот явился с плеткой, имеющей четыре конца, увенчанных узлами, содержащими в себе свинец.
– Ваше превосходительство, он же коня попортит, коли до самой Москвы станет над ним этакой штукой махать.
– А ты почему знаешь куда ему ехать?
– Я дорогу спрашивал, – виновато призналась Налли.
– Что значат слова твои? Ужели ты не только не в состоянии лошади показать кто из вас хозяин, но и верстовых столбов не замечаешь?
– Я их очень замечаю, – отвечала Налли, чуть не плача, – я хотел изведать нельзя ли где спрямить.
– Что за мысли, Фрол – мимо их. Держись дороги, не гоня слишком и не останавливаясь – ничего более.
– Коня «кошкой» издерет, – не унимался конюх.
– Он таким силачом уродился, что никакого огорчения ни «кошкою», ни маргиналем Прусаку не причинит, а без них тот и седоком его почитать не станет. Для чего вдруг ты такой понурый стал, Фрол?
– Вы назвали меня плохим наездником.
– А другой, глядя на тебя, возможет сказать иное? Пустое, как вернёшься я сам за тебя примусь, будешь ездить не хуже моего. А сейчас не то дорого, чтоб сидеть изрядно. Коню только дитя нести легче, а Прусак и артиллерию мог бы до Москвы доставить. Потому я вас двоих избрал. Береги коня, Фрол, для тяжёлой кавалерии его растил, дорог мне встал.
– А всадник? – не удержалась Налли.
– Всадник того дороже, – отвечал Волынской, крестя Налли, – с Богом.
Поначалу путешествие Налли складывалось замечательно хорошо. Прусак размеренно рассекал мощной грудной клеткой воздух, ровно выкидывая огромные свои ноги, и не доставлял Налли малейшего беспокойства. Она благодарила провидение за то, что неоднократно забавлялась с Фролом скаканием по деревне на смирной крестьянской лошадке. Верховая езда ей совершенно не нравилась, и она составляла о ней хотя некоторое представление только в угоду брату и смеха ради, о чём, конечно, теперь радовалась всей душой. Дорога была очень оживлена. Кроме поклаж, нагруженных разным добром для торгу, двигавшихся в ту и другую сторону, и сопровождаемых мужиками и приказными, можно было видеть офицеров и гардемаринов, ведущих свою команду, крытые экипажи, скрывающие за своими стёклами лица целых семейств, а однажды Налли должна была дать дорогу вызолоченной карете генерала Магнуса Бирона, брата обер-камергера, спешащего из Москвы в столицу.
В каждом нагоняемом ею всаднике Налли представлялся злокозненный курьер, потому она незаметно для себя самой нарушала приказание Волынского ехать мерно, и то и дело шпорила Прусака. К сумеркам бока его стали покрываться влагой и подергиваться от пробегавшего по шкуре трепета, но дыхание и шаг оставались такими же ровными, как и в начале пути. Налли, слишком мало сведущая в вопросах касающихся достоинств приличных лошадям, не придала этому наблюдению никакого значения и не оценила сокровища, вверенного ей в лице Прусака. Она решила не останавливаться на ночь и, оставив за собою встретившуюся деревню с потухшим в наступившей тьме крестом колокольни, кликнула припозднившегося поселянина, бредущего на этот бледный маяк с котомкою за плечами.
– А что, добрый человек, тут кажется где-то должна быть река, а за рекою – Московский тракт? Отчего я её не вижу?
– За рощей она, оттого и не видишь, – отвечал с поклоном мужик.
– За какой рощей?
– За березовою. С полверсты не будет. Да вот она.
Налли поглядела в указанную сторону и заметила невдалеке темнеющее пятно, которое принимала в сумерках за холм. Дорога шла другой стороной.
– А коли дорогу оставить и ехать на рощу, можно скорее на московский тракт стать?
– Вестимо можно. Только конь твой в кочах загрузнет совсем.
– Спасибо, добрый человек, – отвечала Налли, пропустив мимо ушей непонятное замечание, – вот тебе алтын, ступай с Богом.
– И тебя храни Матерь Божия, – отвечал прохожий, и Налли поворотила к роще.
Блуждания по ней показались ей часами, хотя на самом деле заняли гораздо меньше времени. Прусак не мог передвигаться, иначе как шагом, идя в поводу за Налли, которая, не видя в сгустившейся тьме ничего кроме торчащих повсюду стволов, пыталась найти нужное направление. Уже душу ей стало терзать опасение, заплутать в лесу вместе с Прусаком, письмом и деньгами, когда она заметила впереди мелькнувший огонёк жилья. Скоро и вода блеснула под берегом с дремавшей на нём деревенькой. У завозни возился плотный мужик. Налли бросилась к нему.
– На тот берег, Бога ради, быстрее.
– Не могу, – отвечал мужик, – погодить изволь, потому с другим уж порядился. Тот тоже едет наспех.
Известие это взволновало Налли необычайно.
– Только перевези меня прежде – получишь рубль серебром.
Мужик решительно покачал головой.
– Уж порядился, от слова не отступлю.
– Два рубля.
– Не могу, сказал.
– Три.
Мужик помолчал.
– Боязно, вишь, тот первый, от генерала послан.
– От какого генерала?
– То-то и есть, что от самого генерал-аншефа Волынского. Наказывал ехать без промедления. Так сам суди, что мной станется, коли помеху стану чинить.
Налли чуть не задохнулась от дерзкого остроумия своего соперника. Подозрение её обратилось в уверенность.
– От Волынского послан я, а кто тот бездельник, то мой господин сам уведает. Вот, взгляни – моя подорожная.
– Чего мне в неё глядеть, коли грамоты не знаю, – отвечал мужик, – а вот свести вас вместе – изволь сведу, сами разберетесь, поди, кто из вас вор. Он в избе с того краю стоит да подкрепляется чем Бог послал – с дороги притомился, и конь его ровно из бани.
Но Налли решительно отвергла такое предложение.
– Пять рублей сейчас и ещё столько же на той стороне, – сказала она.
– Заводи коня на завозню, – решился мужик.
– А что другой завозни тут нет?
– Одна моя.
– А есть ещё на чём перебраться через реку возможно?
– Как не быть, – отвечал мужик, пересчитывая деньги, – лодок довольно. Но чтоб коня поставить можно, для того всего один дощаник имеется.
– Проломи его прежде чем отчалим, – приказала Налли.
Мужик, совершенно расположившийся к щедрому пассажиру, тут же исполнил её желание и через полчаса Налли уже стояла на московском тракте, с другой стороны реки.
– Прости, добрый человек, – сказала она, – денег более при себе у меня нет. Но мой кафтан стоит на три с полтиной больше, чем долг мой тебе. Прими его и сочтёмся.
– Кафтанец-то изряден, – проговорил в раздумье мужик, щупая сукно, – да только, ведь, как я продам его? Скажут украл. Вот кабы ты мне купчую на него какую изготовил.
– Как купчую? При мне ведь ни перьев, ни чернил нет.
– Уголёк сейчас выну, – отвечал мужик и, бросившись в хибарку у перевоза, вернулся с фонарём и угольным грифелем.
– А бумага?
– А бумаги отродясь не держал. К старосте за бумагой идти надо.
– Некогда мне старосту твоего искать, – воскликнула Налли с досадой и, достав подорожную, оторвала от неё изрядный кусок, – что писать?
– Де курьер такой-то пожаловал де Никодиму Захарьеву кафтан. А тот кафтан де ценой в девять рублёв.
– В восемь с полтиною, – поправила Налли, протягивая ему бумагу, и с лукавством прибавила, – коли второй курьер спросит, кому завозню отдал, скажи – то казанского архиерея человек был и грозился ему на Москве не показываться, не то милости его преосвященства владыки совсем лишиться может.
До самой Москвы Налли останавливалась только три раза, на время, требуемое для того, чтоб дать отдых Прусаку. Первая остановка была предпринята в чистом поле, где Налли, завернувшись в епанчу, забралась в укрытый от непогоды и изрядно пощипанный, пущенными в ночное конями, стог старого уже сена. Она не могла даже несколько часов отдать спокойному сну, ибо, не умев стреножить Прусака, боялась его потерять и к тому же страшилась появления непрошенного гостя в лице хозяина стога, которым лакомился конь её. Потому, кое-как перебив мучавшую её дремоту, Налли заставила Прусака вновь пуститься рысью по белевшей в утренних лучах дороге. Второй раз она остановилась у деревенского колодца, терзаемая жаждой и опасением загнать покрытого пеной коня своего. Она знала об опасности могущей приключиться лошади от студеной воды и потому несколько времени водила Прусака шагом вдоль улицы, прежде чем его напоить. Ловя на себе недоуменные взгляды поселян, ибо по причине неимения чем заплатить, отвергала их предложения крова и обеда, Налли, наконец, побеждена была голодом и отдала круглолицей девушке чёрную атласную ленту из своей куафюры, за кувшин молока с куском хлеба. В продолжении третьей остановки, Налли спала, а Прусак лакомился овсом, полученным в счёт оторванных манжетов своей хозяйки, на недалёкой уже от Москвы станции. Отъехав в обратный путь из дома Салтыкова, о посещении которого читатель узнает в своем месте, Налли скоро поняла, что силы её на исходе. Она уже не должна была гнать лошадь, ибо дело её было кончено, но усталость овладела ею столь безжалостно, что едва не валила наземь. Всё тело её страшно ныло, кости ломило, к тому же оставшись без кафтана, она постеснялась просить другого у Салтыкова, и ехала, завернувшись в епанчу поверх камзола, что доставляло ей много неудобств.
К концу первого дня пути, начал накрапывать дождь и Налли стала подумывать о ночлеге, как вдруг услыхала своё имя, громко произнесённое скакавшим навстречу всадником.
– Фрол! – вскричала она, смеясь от радости, – как ты здесь очутился?
– Как счастливо, – заметил подъехавший за Фролом де Форс, – ещё час и мы не узнали бы друг друга за темнотою.
Дело обстояло следующим образом. Не дождавшись Налли вечером того дня, как она была послана в Москву де Форс пришёл в волнение и хотел было пойти узнать о ней, но был остановлен Фролом, который напомнил о том, что такие случаи уже бывали и что они не говорят ни о чём другом, как о том только, что Петр Артемьевич болен горлом и не отпускает от себя любимого своего чтеца, либо что писарской работы слишком много, и для Налли постелили в канцелярской.
Де Форс принуждён был смирить свою тревогу, но, когда Налли не появилась и на другую ночь, решительно собрался к дому на Мойке.
– Осторожно спрашивай, не вдруг, – говорил Фрол, шагая рядом с ним и беспокоясь как бы француз неуместной настойчивостью не навлек на Налли нареканий и не лишил её должности.
– Истинно, сударь, порой поверить не могу, что вы родным братом Наталие Александровне приходитесь, – отвечал де Форс.
– Оттого то, что я ей родной брат я её лучше твоего знаю и спокоен. А твои опасения только легкомыслия твоего же достойны, и я их презираю вместе с тобою самим. Налли не такова чтоб с ней какой анекдот мог произойти.
– Что касается достоинств сестрицы вашей, то вряд ли вы найдёте более почтительного их поклонника в иной персоне, кроме моей. Но что до иных лиц, то я не могу быть в них столь уверен.
– Каркает, каркает, не человек, а ворона.
В доме Волынского де Форсу, представившемуся слугою секретаря Кущина, отвечали, что секретарь послан в Москву, и второй день как уехал.
– С кем? – вскричал де Форс.
– С письмом, вестимо, – отвечал человек.
Де Форс несколько успокоившись, скоро опять пришёл в волнение, теперь по поводу здоровья госпожи своей. В этом он совершенно сошёлся со Фролом, и они вместе выехали Налли навстречу, надеясь не разминуться в пути.
Налли перебралась на лошадь впереди брата и, пристроившись между рук его, тотчас задремала.
– Прусака в повод и на ближайшую станцию, – приказал тот де Форсу, – я тихо поеду, и чтоб разжился чем закусить.
Таким образом, меняя усталых лошадей, на свежих, спутники проделали обратный путь почти с тою же быстротою, с какою Налли достигла Москвы. Простившись со своими, как она их назвала «спасителями» у городской заставы, Налли поскакала к дому на Мойке. Волынской не мог прийти в себя от изумления.
– Как такое возможно, – повторял он, в восторге глядя на своего курьера, – ты вернулся на сутки ранее, чем предполагать надлежало, и то с тем чтоб загнать насмерть Прусака. Подлинно, мудрено поверить, что был в Москве.
Налли протянула ему письмо от Салтыкова.
– За неволю поверить должен, – проговорил Волынской, разворачивая его, и пробегая глазами. Вдруг он рассмеялся.
– Послушай, что о тебе пишет обер-гофмейстер:
«…твой курьер всем хорош, племянник, но более его ко мне не присылай. Он явился мне в дом, в то время, как я после обеда, по обыкновению своему, отдыхал. Лакей не хотел докладывать покуда я не проснусь, но посланец твой, прождав очень немного времени, пришёл в изрядное волнение и стал настаивать меня разбудить, ссылаясь на срочность твоего дела. Ты знаешь, племянник, мои порядки и что я менять их не люблю. Мои люди в том удостоверены со всей крепостью, потому лакей оставил все слова курьера без внимания. Тот от просьб и посулов перешёл к угрозам, от угроз – к самому делу. А именно, выхватив пистолет, хотел человека моего напугать и принудить ему повиноваться. Последний, уверившись, что имеет дело с умалишенным, вывернул ему руку с оружием, отчего и случился ненамеренно выстрел, переполошивший весь дом и известивший меня о прибытии твоего посланца. Благодарение Богу, никто не был задет, ибо пуля ушла в пол.
Я хотел осерчать на курьера, но не мог – зело смешон и собой хорош. Он очень сконфужен был происшедшим анекдотом и более всего опасался, чтоб я тебе о том не пересказал. Для чего просил себе извинений и у меня, и у моего человека. Он напомнил мне, своей манерою, одного из шуринов графа Остерманна – меньшого Стрешнева, в отроческие его годы. Я хотел оставить его ночевать, но он, съев тарелку куриного супу, объявил, что должен ехать и стал просить меня сесть за письмо к тебе, и распорядиться чтоб хорошенько покормили Прусака. Вообще, во всё время пребывания в моём доме, курьер твой имел вид человека, у которого горит родное жильё, и он торопиться вынести из него своё дитя или мать. Потому, дай ему полтину за усердие и избавь впредь от шумных его визитов…»
– Дядя мой скуповат, – продолжал Волынской, откладывая письмо, – полтиной, разумеется, я такого дела не оставлю. Но прежде чем тебя жаловать, хочу услышать, не имеешь ли ты ко мне какой-либо надобности?
– Ваше превосходительство, – отвечала Налли, – если вы спрашиваете моего желания, то оно в том состоит, чтоб всегда иметь доверенность к поручениям вашим и особенно таким, из исполнения которых, вы могли бы увериться в моей верности.