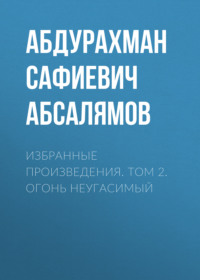
Избранные произведения. Том 2
– Представь, отец, он спутал меня с Иштуганом-абы, – сказал Ильмурза, и опять усмешка искривила его рот. – Стал привязываться: почему, дескать, не едешь в командировку…
– Дурак!.. – в ярости воскликнул Сулейман.
– Кто, я или зять? – смеясь, спросил Ильмурза.
– Оба!..
И Сулейман прошёл в свою комнату. Но вскоре вернулся и сказал Нурие:
– Позвони-ка, дочка, зятю… вернулся или нет? Мне самому лучше не прикасаться к телефону – не стерплю, сорвусь, накричу…
К этому времени Муртазины уже получили директорскую квартиру.
В первый же день приезда Ильшат побывала у отца, правда, без Хасана. На все её уговоры муж не очень убедительно отговаривался работой – необходимо сперва освоиться на новом месте, потом уже расхаживать по гостям.
Всё это Ильшат и передала родным, чувствуя, что отговорки эти звучат для них столь же неубедительно, как звучали и для неё самой. Но они выслушали её молча. И долгожданная встреча не дала радости, более того, оставила у всей семьи неприятный, тягостный осадок.
Сулейман тогда же решил про себя, что не переступит порога квартиры зятя, пока тот не явится с повинной. Но нанесённая Матвею Яковлевичу обида показалась ему до такой степени нестерпимо оскорбительной, что он забыл о своём зароке.
Нурия узнала, что Муртазин ещё не вернулся с завода. Заложив руки за спину, Сулейман заметался по зале, потом, словно что-то вспомнив, распахнул дверь в комнату Ильмурзы.
Сын курил, лёжа на кровати. Увидев отца, он поднялся.
Результатом их последнего крупного разговора было то, что Сулейман настоял наконец на своём. Ильмурза пообещал ему уйти из буфета, решив, что на этом дело и кончится. Но отец – вот беспокойная душа! – опять притащился и снова принялся уговаривать его вернуться в цех, к станку. Удивительно, на этот раз он совсем не кипятился, сберегал, вероятно, силы для предстоящего разговора с директором. Почуяв это, Ильмурза сказал:
– Нет, всё, отец, больше не приставай. Я ведь уже не мальчик…
Но Сулейман-абзы упрямо гнул свою линию:
– Это я знаю, сынок… Пора, давно пора тебе расстаться с детскими затеями… – И, хитря, начал гладить по шёрстке: – Ведь ты способный человек. Разве дело здоровому мужчине стоять за прилавком буфета, когда на то есть женщины. Всё равно как гоняться на коне за воробьями. Мужчине необходимо ремесло. Да! Недаром ведь говорят: человек, у которого есть ремесло в руках, и против течения выплывает. А ты, коли захочешь… из тебя замечательный мастер вышел бы!
Тут-то Ильмурза и испортил всю музыку.
– Брось, отец! – сказал он с холодной усмешкой. – Возьми себя в пример… сорок лет на заводе отзвонил, а что-то до мастера не дослужился…
– Дурак, – перебил сына Сулейман. – Если хочешь знать, перед твоим отцом любой мастер ломает шапку… – Сулейман засновал по комнате, но она оказалась слишком тесна, не по его горячему темпераменту. Сделав три-четыре шага, он резко поворачивал и, то молниеносно закладывая руки за спину, то вдруг выбрасывая их вперёд и сильно хлопая тыльной стороной одной руки по задубевшей ладони другой, всё повторял: – За сорок лет… Твоему отцу стоит только захотеть, его тут же мастером поставят… Разве это плохо, что я предпочитаю работать на станке… хоть все пятьдесят. Хочу своими руками создавать что-то… Разве это плохо, а, Мурза?.. Что скажешь на это, га? Заткнул рот?
– Зря ты меня ругаешь, отец, – помолчав, сказал Ильмурза. – Это раньше гордились званием рабочего… время было такое. А сейчас… не в моде оно.
Сулейман несколько минут стоял, не произнося ни слова, мотая головой, точно оглушённый. Смуглое лицо его постепенно всё больше багровело, чёрные глаза сузились. Ильмурза, видя, как набухают жилы на больших узловатых кулаках отца, опасливо подался назад.
– Мода-а!.. Если у тебя когда-нибудь ещё сорвётся с языка это дурацкое слово, я вырву твой поганый язык и отдам его тебе прямо в руки… Мода-а!.. – Сулейман весь задрожал от возмущения. – Мода нужна, когда шьют платья девушкам или когда такие вот щёголи, как ты, выбирают себе шляпу!.. Если хочешь знать, жизнь и прежде держалась на рабочем, и сейчас на нём держится, и впредь будет держаться! Потому что он коренник… он тянет воз жизни. А ты… ты даже в пристяжные не годишься, всё в сторону норовишь… А почему? Да потому, что голова у тебя забита всяким мусором, пережитками, как по-книжному говорится… – И он сильно хлопнул ладонью о ладонь. – Факт!
Ильмурза молча упрямо покачал головой. Но Сулейман по глазам прочёл, о чём он думает.
– Да, да!.. Будешь лоботрясничать, всякое может случиться… Не смотри, что ты сын потомственного рабочего. Сорняк – он везде растёт.
Сулейман теперь насквозь видел сына.
«Гончар бьёт своего сына прежде, чем тот разобьёт горшок. И мне бы следовало малость пораньше начать учить тебя уму-разуму. Эх, маху я дал!..»
Сулейман повернулся на носках, скрипнув сапогами.
– Думаешь, один ты мудрец, а у других ум за дверьми остался, га?.. Как бы не так! Ты только мне не сознаёшься, а мозги-то у тебя крутятся в одном направлении. – Огрубелым пальцем он показал, как скользит рыба в воде. – Как бы тишком-молчком нырнуть куда поглубже, пока людям трудно, а придут хорошие времена – и ты всплывёшь. Ляжешь и будешь себе поплёвывать в потолок.
После подобных перепалок Сулейман невольно сравнивал Ильмурзу со старшим сыном Иштуганом. В чём ошибка? Чего недоглядел? Оба ведь без рубашек родились. Правду говорят, на дураке рогов нет, а то бы каждый сказал: вон дурак идёт.
В комнату вбежала Нурия. Она уже успела сменить лыжные брюки на платье и надеть белый передник. Перевязанные лентой чёрные косы дугой свисали на спину.
– Где Гульчира? – сухо спросил отец, выходя от Ильмурзы.
– У неё сегодня вечерний университет.
– А невестка?
– Ушла в консультацию.
– Готова ванна?
– Сейчас, папа, греется. – Нурия юркнула в ванную комнату. Потом принесла чистое бельё, полотенце, недоумевая, чем так расстроен отец, из-за чего опять схватился с Ильмурзой.
Вода нагрелась, и Нурия позвала отца. Заметив, что он всё никак не успокоится, она мягко вполголоса сказала:
– Полно уж, папа, перестань волноваться. И, пожалуйста, потише в ванной, Иштуган-абы работает.
– Иштуган разве дома? – перебил её отец.
– Давно уже. Это ты сегодня что-то запоздал. Иштуган-абы просил передать, чтобы ты зашёл к нему, как вернёшься.
Нурия знала, что отец больше, чем с кем-нибудь, считается с Иштуганом и даже чуточку побаивается его, поэтому она, как и все остальные женщины в семье, стоило отцу начать горячиться, старалась ввернуть словечко об Иштугане.
– Шш-ш! – замахал на неё Сулейман, когда Нурия, уронив горячую крышку, заплясала возле плиты, тряся обожжённым пальцем. – Руки, что ли, отсохли?..
Нурия подставила палец под струю холодной воды.
– Сильно обожгла? – забеспокоился Сулейман за любимицу.
– Пустяки. Уже не больно…
Сулейман сунул руку в наполненную ванну. Любил старик попарить косточки. Умница Нурия, горячей воды налила.
Сулейман попросил Нурию ещё разок позвонить зятю и, войдя в белую ванну, погрузился в приятно горячую воду. Закрыл глаза. Всё показалось ему в эту блаженную минуту незначительным, даже мелким: и грубость зятя, и обида Матвея Яковлевича, и собственная горячность, и Айнулла, и Ильмурза… Вода чудесным образом снимала давящую на плечи усталость, как бы смывала раздражение, кипевшее в груди. Он прислушался: неугомонное сердце постепенно успокаивалось, билось ровнее.
«Старый волк прокладывает стае дорогу… И верно, кто же, как не я, покажет детям дорогу, – размышлял, закрыв глаза, Уразметов. – Одно помнить надо: кто без ума берётся – дерево ломает. Нет, прежде чем идти к зятю, надо поостыть». И он с глубоким наслаждением стал почёсывать короткими жёсткими ногтями, под которыми набилось машинное масло, мускулистую, обильно покрытую чёрными волосами грудь.
Минут через двадцать, вытирая на ходу лицо и голову мохнатым полотенцем, Сулейман показался из ванной. Его смуглое лицо раскраснелось, чёрные усы и стриженная под машинку, не тронутая сединой голова были ещё влажны, отчего казались ещё черней.
Сулейман заглянул на кухню и, не увидев дочери, тихонько позвал:
– Нурия, ты где? Позвонила?
Нурия не выскочила, как обычно, на голос отца. В зале кто-то пел очень мелодичным, глубоким басом. Голос певца доносился откуда-то издалека. Сперва чуть слышно, затем всё нарастая и нарастая и, наконец, зазвучал в полную силу, – казалось, гудит дремучий лес в бурю.
Сулейман на носках прокрался в залу. Нурия, забыв всё на свете, замерла у приёмника. Когда Сулейман, войдя, окликнул её, она вздрогнула и сердито замахала руками:
– Тише, отец, Поль Робсон поёт!
Удивительно, что за песня! Слова непонятны, а напев всё равно за душу берёт. Старый рабочий, вся жизнь которого прошла в тяжёлом труде, в этом голосе, могучем, как шум леса, ясно почувствовал тоску и печаль, радость и надежду забитого, угнетённого народа.
«И у нас в старое время, бывало, такие песни пели…» – подумал он.
Песня смолкла. Сулейман помолчал в задумчивости, спросил, позвонила ли Нурия зятю, и, узнав, что Хасана всё ещё нет дома, медленно направился в свою комнату. У него была привычка: после ванны минут десять-пятнадцать отдохнуть. Отдышавшись немного, не утерпел, позвал Нурию.
– Дочка, почитай, пожалуйста, о вибрации. На чём мы вчера остановились?
Сулейман сам читал мало. «От чтения зоркость теряется, скорее на работе глаза устают», – хитрил он.
А Нурия, больше любившая, как и все её сверстницы, читать романы, без особой охоты выполняла просьбу отца. Иногда она протестовала: «Вся семья заражена этой вибрацией!» И завидовала брату Ильмурзе, умеющему держаться в стороне от этих производственных совещаний на дому. «По крайней мере, не ломает себе голову попусту. Вернётся с работы, перекусит и идёт, куда душа желает. А ты тут канителься с этой вибрацией, чтоб ей пусто было… И что это за вибрация такая, что над ней бьются, не в силах справиться лучшие мастера и инженеры… Даже профессора».
И Нурия, чтобы поскорее освободиться, зачастила-зачастила, но отец не переносил этого.
– Ты, дочка, не трещи, как вертолёт. Читай с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы понимал человек.
Нурия, надув губы, старалась читать «с чувством, с толком, с расстановкой», но очень скоро забывалась и снова начинала трещать. Опять отец останавливал её, заставляя повторять прочитанное. В эти минуты Нурие казалось, что она совсем не любит отца: «Полёживает себе в кровати, заложив руки за голову, да посматривает в потолок. И, небось, думает в это время совсем о другом». А когда он принимался читать ей наставления, она нарочно, чтобы позлить отца, водила, вздыхая, рассеянным взглядом за парившими в небе голубями деда Айнуллы или, состроив грустную мину, прислушивалась к уличному шуму, врывавшемуся через открытое окно. А то вдруг, когда уж очень станет невтерпёж, пустится на хитрость, скажет, что ей пора готовить уроки. В таких случаях отец немедленно освобождал её от чтения. И сегодня повторилось то же самое. Едва Нурия заикнулась насчёт уроков, Сулейман тут же отпустил её.
– Ладно, у меня и у самого дело есть… – сказал он, вставая. – Так Иштуган зайти велел?
– Да-да.
– Ну я пойду к Иштугану. А зятю позвони ещё раз. Мне непременно надо сегодня же увидеть его.
2Уразметовы жили на третьем этаже окончательно достроенного заводом уже после войны пятиэтажного дома. Свою уютную квартирку с балконом они любили за то, что в ней весной и летом целыми днями гостило солнце, а из окон, выходивших на улицу, можно было видеть с одной стороны площадь и зелёный парк, с другой – футбольное поле стадиона: смотри себе прямо из окна футбольные матчи! Самую тёплую и маленькую комнатку взял себе Сулейман. Через залу, в просторной комнате жил Иштуган с женой Марьям, Гульчира с Нуриёй обосновались в комнате с балконом, окно которой выходило на угол двух новых улиц. Летом девушки засаживали балкон вьюнками. Хорошо было, раскинув раскладушку, лежать, почитывая книжку, под зелёным шатром. Ильмурзе досталась небольшая комната рядом с кухней. «Холостяку сойдёт. А женится – тогда посмотрим», – сказал Сулейман.
Старик и Гульчира питали пристрастие к цветам, и потому комнаты были сплошь заставлены самых разных размеров цветочными горшками. Лишь в комнате Ильмурзы их не было. Вкус владельца выдавали пестревшие на стенах бесчисленные фотографии да дешёвые репродукции.
Если не считать блещущей чистотой девичьей комнаты, украшенной вышивками Гульчиры и несколькими со вкусом отобранными картинами, самой уютной комнатой в квартире Уразметовых был уголок Иштугана и Марьям. Эта комната, в которой не было ничего лишнего, как-то по-особому радовала глаз. Так радует залитая солнцем поляна в лесу.
Когда Сулейман появился на пороге комнаты, Иштуган, в туго обтягивавшей торс фисташковой тенниске, такой же широкоплечий и приземистый, как отец, стоял у чертёжного стола и, склонившись над листом ватмана, быстро что-то чертил.
– Проходи, проходи, отец, присаживайся, – приветливо сказал он, подняв голову.
Стараясь ступать как можно мягче и осторожней, словно в комнате спал ребёнок, Сулейман подошёл к столу.
– Садись, отец. Устал, что ли? Или расстроен чем? Вид у тебя невесёлый…
– Вид!.. Ладно бы, если б только в личности моей было дело. Тут кое-чем побольше пахнет, сынок, – сказал Сулейман, вздохнув. – Когда в командировку-то трогаешься?
– Командировочные уже в кармане… Вернусь – и прямо к Гаязову. Разговоры, рапорты, как вижу, – зряшная потеря времени! Тут надобно под самый корень подсекать… Сегодня у меня вечер свободный. Может, помозгуем вместе над тем, что тебя мучит, отец? Артём Михайлович заезжал на завод. Видел?
– Нет, не видал. А жаль… – Сулейман вместе со стулом придвинулся поближе и, положив руки на колени, кивнул головой на чертежи. Лицо его чуть оживилось, чёрные глаза сверкнули. – Добро, и что же он говорит, профессор? Обнадёживает?
Артём Михайлович Зеланский, друг юности Сулеймана, был тот самый очевидец случая, когда Сулейман чуть не бросил в огонь своего хозяина. Теперь профессор Зеланский заведовал кафедрой в одном из институтов Казани.
Заметив, каким нетерпением блеснули отцовы глаза, Иштуган прикинулся непонимающим.
– Насчёт стержней? Одобрил.
– Га, задолбил: стержни да стержни! – воскликнул отец. – Подглядели у добрых людей и у себя применили. Великое дело, подумаешь.
– Это ты зря, отец… Мы ведь не просто берём готовенькое, кое-что и от себя додумываем, прибавляем… Человек у человека ума набирается.
– Ладно… У Гали́ своё дело, у Вали́ – своё. Меня интересует, что Артём думает о вибрации. С отца твоего не стержни требуют, а коленчатые валы. Что сказал Артём, будет толк, нет?
– Говорит, что путь поисков правилен, отец, – перешёл Иштуган на серьёзный тон. – И что это даст возможность лучше понять процесс вибрации… если изучать отдельно вибрацию резца и вибрацию детали. Это новый подход – и в практике и в науке.
– Да ну!.. – так и подскочил Сулейман на стуле. С силой хлопнул ладонями по коленям. – Смотри ты, га!.. Неужели так прямо и сказал? И в науке новый подход?! Ну, тут Артём, конечно, загибает. Знаю я его, – недоверчиво помахал пальцем Сулейман, но смуглое лицо его осветила пронизанная радостью горделивая усмешка.
– Вот так, отец, – продолжал Иштуган, подавляя улыбку, вызванную юношеской непосредственностью старика отца. – Артём Михайлович говорит: если сможете доказать, что эти два вида вибрации не зависят друг от друга, то можно будет поздравить вас с первой победой… Так как мысль, отец, впервые зародилась в твоей голове…
Сулейман замахал руками:
– Брось, брось, сынок, не болтай пустое. – И он, не замечая, отодвинулся вместе со стулом немного назад. – С какой это стати?.. «В моей голове зародилась!..»
Иштуган расхохотался.
– Ты, отец, кажется, испугался, что, если мы не сумеем доказать этого, весь стыд падёт на твою голову, а? Хитёр, нечего сказать!
На этот раз ему стал вторить и Сулейман:
– Не без того, сынок, не без того… В дни моей молодости на хитрости свет стоял. Не зря твоего отца прозвали «Сулейман – два сердца, две головы». Одно сердце испугается, другое не дрогнет.
– Так то геройство, отец, совсем иного порядка – оно у всех на виду. А здесь мозгами ворочать надо… Кропотливая незаметная работа.
Прищурив левый глаз, Сулейман смотрел на сына, лукаво поводя бровями.
– В двух головах авось один ум наберётся, га? Ладно, языком каши не сваришь, давай ближе к делу. Зачем звал?
– Видишь ли, хочу сделать небольшое приспособление, чтобы легче было доказать твою мысль. Эскиз вот набрасывал. Есть о чём посоветоваться и с тобой и с Матвеем Яковличем. Не послать ли за ним Нурию?
Оживление на лице Сулеймана погасло.
– Нет, сынок, не будем пока беспокоить Матвея Яковлича, – сказал он, глубоко вздохнув.
– Что, не в настроении, что ли?
Сулейман-абзы встал и быстро заходил взад и вперёд по комнате. Его чёрные глаза посверкивали двумя угольками, когда он круто поворачивался на своих кривых ногах, шлёпая чувяками.
– Настроение!.. Чуть что, сейчас у вас, у молодых, это словечко – настроение…
Иштуган принялся успокаивать отца. Только что сидел тихо-смирно и вдруг вскочил с места. Ярость в нём так и кипит…
– Погоди-ка, отец… объясни толком. Ольга Александровна захворала, что ли?
– Захворать не беда. К больному человеку доктора можно позвать, а тут никакой доктор не поможет…
Сулейман вдруг резко остановился посреди комнаты и сильно хлопнул кулаком по ладони.
– И кто бы мог подумать… га… Зять Уразметова!.. Чем так обидеть человека, лучше бы своим автомобилем задавил его… Нет, я не я буду, если сию же минуту не отправлюсь к нему. Я ему в глаза грохну, кто он такой! Это для других он директор, а для меня… Он меня отцом называет, а коли так, – пусть соизволит выслушать отцовское слово!
Иштуган слышал уже на заводе об этой злополучной встрече, но не придал этому особого значения. Почёл за стариковскую придирку. Старики в этом отношении, как дети, чуть что не по-их – смотришь, уж и в обиду ударились.
– Послушай, отец, а может, это простое недоразумение?
Сулейман-абзы, воспринимавший всякую обиду, нанесённую Матвею Яковлевичу, как свою собственную, вскипел:
– Недоразумение?! Га… хорошенькое недоразумение. Говорить с человеком и не узнать его… Тысячу лет, что ли, прошло, как они не виделись?
– Что за спор? – спросила, распахивая обе половинки двери, Гульчира. Она только что вернулась с учёбы и завязывала нарядно вышитый девичий передник. На смуглом лице её сияла улыбка.
Увидев дочь, Сулейман-абзы тотчас умолк. Иштуган объяснил сестре, чем расстроен отец.
– Что ж, отец, удивляться, он ведь и к нам ещё не заглядывал, – без особого огорчения, всё так же сияя улыбкой, сказала Гульчира.
Но Сулейман не собирался сводить это дело к простому недоразумению.
– Мы, дочка, другая статья. Мы свои люди, придёт время – сочтёмся, а Матвей Яковлич…
– А за это, отец, прежде всего тебя следовало бы побранить. То всё вместе-вместе, а в самый нужный момент оставил его одного.
Старый Сулейман молча с укоризной посмотрел на дочь.
– Да будь я там!.. – сжал он кулаки.
Иштуган с Гульчирой растерянно переглянулись, увидев, как страшно изменился в лице их отец. Но Сулейман, переборов себя, опустил сжатые кулаки и сказал как только мог тише:
– Ладно, сынок, спрашивай, о чём хотел посоветоваться, и закончим на этом… Сейчас невестка вернётся. А ты, Гульчира, иди накрой на стол.
Иштуган подождал, чтобы отец немного успокоился, и стал объяснять устройство приспособления, которое надумал. Хлопнула наружная дверь. Пробежала Нурия, и тотчас по коридору разнёсся её звонкий радостный голос:
– Марьям-апа вернулась!
Иштуган, выйдя навстречу жене, помог ей снять пальто. Стесняясь ли своего положения, – она была в широкой блузе, какие носят беременные женщины, – или потому, что устала, поднимаясь по лестнице, Марьям не зашла в свою комнату, где сидел свёкор, а прошла на кухню, к девушкам.
Сулейман, с большим уважением относившийся к невестке, частенько говаривал своим дочерям наполовину в шутку, наполовину всерьёз:
– Смотрите вы у меня, Сулейманова кровь, знаю я вас – на камень наступите и из того воду выжмете… Если хоть пальцем тронете невестку, даю одну из своих голов на отсечение, не ждать вам от меня добра.
Когда Марьям забеременела, Сулейман ещё внимательнее, ещё бережнее стал относиться к невестке.
– Га!.. И мне пора стать наконец дедушкой, отрастить бороду. Мать ваша так и померла, не увидев в своём доме внуков. Ну, уж я-то не умру… дождусь внука. Мне внук во как нужен!
Но первые два ребёнка Марьям умерли, едва появившись на свет. Потому Сулейман теперь не очень шумел, но в душе мечтал, чтобы невестка народила ему мальчиков, которые ввели бы рабочую династию Уразметовых в коммунизм, мечтал, пока жив, заложить в их души необходимую «рабочую закалку».
За стол семья Уразметовых села, как всегда, в полном сборе. Перебрасываясь заводскими новостями, ели традиционную татарскую лапшу. Усерднее других отдавал должное стряпне Нурии Ильмурза. Нурия, сияя от удовольствия, то и дело подливала ему лапши в тарелку.
Сулейман, любивший обычно посидеть за столом, – это был единственный час, когда он видел всех своих детей вместе, – сегодня торопился скорее закончить с обедом. Переодевшись, он ушёл.
– Пошёл учить уму-разуму джизни, – сказал, посмеиваясь, Ильмурза. – Читайте молитвы, не то вернётся и спать нам не даст.
Но никто не подхватил его шутки. А Нурия, когда ушли старшие, сказала Ильмурзе, собирая посуду:
– Не смей насмехаться над отцом, за собой лучше смотри, буфетчик.
Ковыряя в зубах зубочисткой, Ильмурза сказал с усмешкой:
– Э-э, сестрёнка, тебя замуж не возьмут, непорядок на столе! – И пошёл на кухню следом за мгновенно зардевшейся Нуриёй, которой пришлось вернуться за забытой на столе ложкой. – Не сердись, Нурия, – не унимался он, хоть и видел, что сестра дуется на него. – Пойдёшь со мной в кино? А то, хочешь, куплю билет в кукольный театр.
Когда Ильмурзе хотелось позлить Нурию, он обязательно говорил о кукольном театре, чтобы подчеркнуть, что она ещё ребёнок в его глазах.
– В кукольный театр!.. В медвежий цирк с удовольствием пошла бы, только билеты купи. А то всё обещаниями отделываешься!.. – И, поцеловав Марьям, наливавшую горячую воду, чтобы мыть посуду, и сказав, что справится одна, Нурия чуть не насильно увела невестку из кухни.
– Иди отдохни, Марьям-апа. Устала…
Ильмурза курил у открытой форточки.
– Нуркай, скажи, – спросил он, глядя на окна кухни в тёмный провал двора, – ведь ты меня не любишь?.. В этом доме никто меня не любит, верно?
В тоне, каким сказал это Ильмурза, сестра уловила необычную нотку. Быстро обернувшись, изумлённая Нурия воскликнула:
– Что ты говоришь, Ильмурза? Как мы можем не любить тебя? Если когда поругаем, так это совсем не значит, что не любим…
Склонившись над тазом с горячей водой, она внимательно присматривалась к брату. Какой-то странный сегодня Ильмурза. Нет на лице обычной холодноватой насмешливой улыбки, он, кажется, даже немного задумчив и грустен нынче. С чего бы это? Неужто из-за того, что отец поругал? Но ведь ему не в новинку выслушивать выговоры отца.
– Ах, сердце моё, молодое сердце,Что ж ты убиваешься? –запел чуть слышно Ильмурза. Резко обернулся и сказал немного растерявшейся сестре:
– Нуркай, я скоро уеду.
– Куда?
– Куда сейчас молодёжь уезжает, туда и я. В деревню!
– Правда?! – переспросила Нурия. В её больших глазах засветилось радостное удивление.
В ответ на призыв партии сотни и тысячи молодых людей уезжали в те дни в деревню. Это было так прекрасно, так романтично, но где-то там… И вот, оказывается, её брат тоже едет в деревню. Значит, эта чудесная, но далёкая романтика здесь, в их доме.
– Комсомол посылает?.. – быстро спросила обрадованная Нурия.
Закинув голову, Ильмурза расхохотался.
– Эх, Нуркай, дорогая, разве ты не знаешь, я давно уже вышел из комсомольского возраста. – Ильмурза смеялся, но Нурия заметила, что по его красивому лицу пробежала лёгкая тень. – Нет, сам я надумал, сестрёнка. По собственному желанию еду.
– Ах, Ильмурза, прошу тебя, говори серьёзно… Ведь это такой замечательный шаг. А что папа говорит? Давеча он из-за этого и шумел у тебя?.. Не хочет отпускать тебя в деревню?
Нурия была восхищена решением брата. Блеск глаз, возбуждённое лицо говорили: «Брат, милый брат… Я всем сердцем на твоей стороне. Не бойся… Никого не бойся. Поезжай в деревню!..»
3Иштуган наносил на чертёж последние линии. В большой квартире Уразметовых стояла тишина. Нурия ушла в кино с Ильмурзой. Гульчира тоже унеслась куда-то. Отец ещё не вернулся от зятя. Марьям сидела напротив на диване и шила детскую распашонку. Матовый абажур отбрасывал на её белое лицо и золотистые волосы мягкий рассеянный свет. Время от времени она поднимала голову, и тёмно-голубые глаза её с любовью останавливались на муже. Точно почуяв это, он тоже поднимал глаза. Их взгляды встречались, оба чуть смущённо улыбались при этом, словно влюблённые, только что признавшиеся друг другу в своём чувстве. Марьям даже слегка краснела. Шестой год живут они вместе, а ей всё кажется, что ещё не кончился их медовый месяц. «Всю бы жизнь так прожить», – мечтала она про себя.