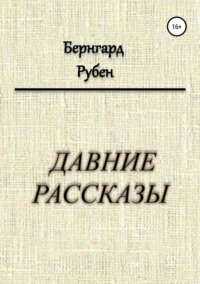
Давние рассказы
Так и мы с матерью сидели у могилы отца.
Я смотрел на мать и видел ее в купе скорого поезда – смятенную, чувствующую беду, но надеющуюся. Она не знала, что отец умер, знал я, но не сказал – и не смог, и нельзя было, это убило бы ее сразу. Отец умер, находясь по своим делам в другом городе, и вот мы ехали к нему, точнее – за ним, и мать, пряча ладонь в ладонь, шептала: «…только застать его живым, а уж я выхожу его, лишь бы застать живым… Ах, сын, мы забыли купить яблок, они помогают ему…»
Трудное это дело – привыкать к смерти близкого человека. Помню, на следующий день после похорон мне страстно захотелось еще раз, в последний раз, взглянуть на отца, пожать его руку, и я чуть было не затеял разрыть могилу, хотя в то же время сознавал бесполезность, да и невозможность такого дела.
Но, шаг за шагом, туман, в котором действует человек непосредственно во время несчастья, рассеивается. Родственники и знакомые, толпившиеся вокруг, расходятся и разъезжаются по домам. Молча, про себя, не осуждая, а переоценивая свою жизнь и стараясь не говорить об этом с матерью, начинаешь размышлять о друзьях и родных, не приехавших на похороны. Подумываешь и о других людях, не часто бывавших в доме, но теперь оказавшихся рядом. Идут дни, и ты, вроде бы, мало-помалу начинаешь привыкать к тому, что произошло.
И вдруг однажды утром то, что произошло в твоей семье, становится так неправдоподобно ясно, так просто и страшно очевидно, что само понятие «никогда» делается материальным, ощутимым на каждом шагу – там, где проходил отец, а теперь ходишь ты, в каждой вещи, к которой он прикасался и на которую нельзя смотреть без смертельной тоски. А на стене, скорбно уставясь в пустоту комнаты, в черной с позолотой рамке висит портрет, немой свидетель твоих мук и бессильного протеста, неживые черты ушедшего навсегда человека, безжалостное напоминание о его смерти. И о неминуемой смерти вообще.
Никогда…
Потом боль и потрясение запрятались глубоко внутрь и словно покрылись какой-то твердой оболочкой, ограничившей сразу их размеры, а судорога скорби уже проходила по сердцу и лицу лишь в тех случаях, когда, открыв ящик письменного стола, я брал в руки пузырек из-под нитроглицерина, именные часы, боевые ордена отца. В ушах моих тотчас раздавался стук молотка по шляпкам вколачиваемых в гроб гвоздей – жуткий звук, все перевернувший внутри. Вот этот стук со скрежетом и вывел на кладбище мать из оцепенения, и страдание, глубокая боль расширили ее бесслезные глаза, и лицо ее передернулось.
Посещая могилу отца, я исподволь совершил тот внутренний путь, когда олицетворением умершего человека на кладбище становится могильный холм с табличкой. Долго я не мог без тревоги смотреть на эту табличку, не мог привыкнуть к тому, что на ней написаны имя, отчество и фамилия моего отца. Моя фамилия. Это казалось невозможным, нелепым, вызывало удивление и смятение. Я уже привыкал к тому, что отца нет в живых (хотя нет-нет, да и готов был броситься за человеком, фигурой или лицом напомнившим мне отца), но вот видеть спокойно нашу с ним фамилию на могильной табличке не мог никак.
Сколько раз один или, когда матери становилось лучше – вдвоем с нею сидели мы неподвижно у могилы; в эти минуты жизнь летела где-то далеко, стороной, не касалась нас. Сменялись правительства. Проводились испытания термоядерных бомб. Люди женились и расходились, шли на работу, в магазины, в кино. В скверах играли дети. Но ничего этого в те остановившиеся минуты для нас не существовало.
А потом мы тихо шли по кладбищу, и я впервые в жизни внимательно присматривался к этому новому для меня миру.
2
Я вступил в тот круговорот действий, когда чувствуешь на себе обязательство отдать умершему последний долг и бьешься над устроением могилы, в одно и то же время отчетливо понимая, что теперь отец живет только в нас – в матери и во мне, что ему это уже не нужно, что ему уже ничего не нужно, и что все это обязательно надо сделать – и для матери, и для себя, и для окружающих. Может быть, даже больше для окружающих. Нет, и для него тоже. Для всех. Хотя мы с мамой и так бы никогда не забыли это место.
Надо было поставить ограду и памятник. И я отправился в путешествие по кладбищу – не мельком, не внешним взглядом воспринимая вставшие передо мною могилы, а зная теперь, что каждая в себе схоронила, слыша и громкий плач, и беззвучный стон над каждой, и скрежет забиваемых в гроб, точно в душу близких, гвоздей. Я бродил по кладбищу, рассматривая оформление могил и выбирая для могилы отца примерный образец. Я увидел разные могилы: в оградах и без оград, и в виде клеток – закрытые со всех сторон и сверху железной сеткой, и даже в виде комнаток с глухими фанерными или еще какими-нибудь стенами, с крышей, с маленькими оконцами. В одной такой комнатке был выстлан кафелем пол, стояли беленький стол с вазой с цветами, стул, висел портрет мальчика: безутешные родители хотели создать по-земному домашний приют для духа безвременно умершего сына.
Каждый раз по дороге на могилу отца я проходил мимо памятника одному из декабристов – большой розового гранита полированный шар вдавился в продолговатый постамент. Чуть подальше высился темный памятник в форме плоской вертикально поставленной плиты с белой мраморной фигуркой девы-плакальщицы внизу у основания. Опущенное печальное личико плакальщица закрыла ладонями. Это был один из старинных типов памятника, и трудился над ним, несомненно, мастер своего дела, художник. Плита черного мрамора символизировала как бы отвесную стену, скалу, о которую разбились мечты, надежды – жизнь. Черный мрамор обрамлялся белыми полуколоннами, посеревшими ныне от времени. Полуколонны эти казались теперь лишними, но тогда был такой стиль, требовалась законченность декорации.
По другую сторону дорожки я привычно уже поворачивал к черной трубчатой с броским позолоченным орнаментом ограде и смотрел на крупный памятник в ней – обелиск с именем полковника, Героя Советского Союза. Рядом, в той же останавливающей взгляд ограде, приютился маленький цветник с железным посеребренным крестом, могилка матери полковника, аккуратная, скромная, с простыми, но милыми анютиными глазками. Я вспоминал Есенина и его «Письмо к матери», проходя около этого места. Полковник погиб «при исполнении служебных обязанностей» уже в мирное время, спустя десять лет после конца Великой Отечественной войны, и старушка-мать недолго пережила сына.
Совсем недалеко от могилы отца, у самой дороги лежал, как огромный сундук, обтесанный и полированный прямоугольный камень, высотою метра полтора и длиною около двух с половиной метров. Камень был широк, на верхней грани высечен был крест, а по бокам – надписи:
«Здесь покоится тело крестьянина Владимирской губ. Покровского уез. дер. Ветчей Александра Гавриловича Боброва, скончавш. 16 августа 1879 г. 65 лет».
«И супруга его Iустиния Михайловна Боброва скончалась 22 января 1881 г. 65 лет».
– Из-под такого камушка не поднимешься, – бодро сказал какой-то гражданин, остановившись около меня, когда я впервые внимательно и не спеша читал надписи.
– Оттуда и без камушка не поднимешься…
Прохожий отошел, а я еще постоял тогда у могилы Бобровых. Я подумал о дорогой цене, которую надо было заплатить крестьянину за такое мраморное надгробие. Потом я понял, что выходец-то отбыл из крестьян, так сказать, крестьянского звания, а выбился в купцы, да купцы, верно, богатые. Иначе лежать бы ему под деревянным крестом на деревенском кладбище в Покровском уезде рядом со своими земляками. Подумал я и о том, что жена его умерла вслед за ним, как только ей тоже сравнялось 65 лет, будто и в смерти была не вольна, не смела пережить своего хозяина и кормильца, а вероятнее всего и сама считала истово, что так и быть должно и задерживаться здесь ей уже ни к чему, там ждет ее душу родственная душа, ее свет, ее судьба – как бы ни держал он ее в здешней жизни, справедливо ли, хоть и строго, или обижал…
Иногда я шел другой дорогой – через братские могилы погибших в эту войну солдат, офицеров и ополченцев.
На небольшой треугольной площадке расположилось больше пятидесяти одинаковых памятников. В каждый памятник с лицевой стороны вделана была белая мраморная доска, на каждой доске – около тридцати фамилий и внизу дата: «1941 год». Посредине площадки – черный высокий обелиск с надписью:
«Вечная слава бойцам и командирам Советской Армии, павшим смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины».
Как-то зимой я увидел здесь старика и старуху. Старик был в коротеньком пальтеце, в высоких старых валенках. Цвет пальто определить уже было трудно, и воротник совсем поистерся. Старик стоял с непокрытой лысой головой, и давно не стриженые волосы на висках и затылке шевелились от ветра. Старуха была в черном платке и в ватной жакетке поверх темного платья. Сухими неподвижными глазами смотрела она на белую мраморную доску со столбиками фамилий, отыскав одну-единственную, фамилию сына.
Потом старик перекрестился, подошел к памятнику, потрогал дрожащей морщинистой рукой серый камень, к которому прикреплялась мраморная доска, и, согнувшись, поцеловал этот надгробный камень братской могилы. Жена его перекрестила могилу и что-то беззвучно прошептала.
Отойдя назад несколько шагов, старик надел шапку, и пошли они по дорожке вдвоем – старик чуть впереди, может по привычке, а может, чтоб старуха слез не видела…
Я оглядел еще раз небольшую треугольную площадку – длиной метров двадцать-двадцать пять. Сколько таких мест разбросано по нашей земле войной? И что скрыто за каждой строчкой-фамилией?.. И сколько вдов и сирот, стариков и старух приходят на братские кладбища?
3
Я ходил мимо могил знаменитого русского поэта, великого ботаника, известного революционера, потомственного почетного гражданина, купеческого отрока, авиаконструктора, мимо многих других, на которых значились только фамилии и даты. И мне настойчиво вспоминались всякий раз слова Анатоля Франса о том, что человечество по сути дела состоит из мертвецов – так велико количество отживших по сравнению с ничтожным числом живущих.
Здесь, на кладбище, словно отделенные итоговой чертой, сравнялись и слились в одну суммарную строчку даты хронологических столбцов разных эпох. Там, за этой отсечной гранью, освобожденные смертью от привязки к своему времени, могли, казалось, запросто встретиться Лев Толстой с Гомером и Шекспиром, Леонардо да Винчи с Ломоносовым и Эйнштейном, Александр Македонский с Суворовым и Наполеоном…
Меня неотвратимо понесло на заледеневшую, недвижную, осиянную мерцающим светом давно погибших звезд Равнину вечных вопросов.
И всеохватное, пронизывающее чувство противоестественности смерти, этот бунт живого против неминуемого тлена, разложения, мертвечины, против червей и пепла – уступили место размышлению. Все, что думалось уже от повода к поводу за прожитые годы и подкопилось исподволь в собственный опыт, все, что было читано, и все, что произошло со мною с того внутреннего перелома, на который выправила меня смерть отца, – все это сошлось теперь вместе для дальнейшей работы ума и сердца.
Давным-давно я вычитал где-то примерно такое восточное проклятие: «Пусть он живет так долго, что переживет всех сверстников своих, потом детей, своих внуков, и чужой, одинокий, никому не нужный будет жить среди людей как в пустыне».
Память отыскала это изречение-проклятие, помогая моему примирению с физической смертью. Наверное, тогда у меня кончилось питаемое энергий и эгоцентризмом молодости ощущение своей бесконечности, вечности. В общем-то, все здесь представлялось понятным: невозможно быть бессмертным физически потому, что есть предел прочности матерьяла, из которого сотворены мы природой. Аналогично машинам, которые создает сам человек, наше тело изнашивается, стареет, устает. Тем более, что ездим мы на этой своей машине, особенно в молодости, нещадно, не прислушиваясь в горячке к стукам в моторе; а чтоб двигатель работал активнее, тянул сильнее, многие заправляют баки горючим с высоким октановым числом, не заботясь в тот миг о подгорающих клапанах. И мчат по любой дороге, а то и по бездорожью – лишь бы к сиюминутной цели поспеть. А затем, в лучшем случае, загонит такой водитель свою машину на пункт «технического обслуживания», отдаст в чужие руки на какой-то ремонтный срок и – опять покатил, нажимая на газ, резко тормозя, все еще не выбирая осторожно дороги…
Ну, а как обстоит дело с душой, которая, очевидно, есть главный наш движитель, причина и основа, ядро всего нашего жизненного пути, судьбы нашей и которая вроде бы должна остаться бессмертной?
До сих пор пытаются разгадать тайну скоропостижной смерти пятидесятидвухлетнего Шекспира, который, по имевшимся свидетельствам, ничем не болел. Но – он вместил в свое сердце, перечувствовал столько и таких трагедий, каких и сотая доля не достанется какому-либо высокогорному долгожителю, родившемуся еще до убийства Пушкина. Шекспир познал сердцем своим страсти человечества – без чего не было бы шекспировских трагедий – и тем переполнил, истомил, сокрушил его. А знаменитый поэт, у могилы которого я часто стоял, затопил свое сердце своими собственными страстями, глубоко тронувшими сердца его многочисленных читателей.
Сколько раз можно любить, скольких детей воспитать, сколько иметь друзей, врагов, сколь раз поразиться новым для тебя странам, диковинным обычаям, иным нравам – от всей, как говорят, души? Предел прочности есть не только у нашего тела. Душа устает тоже. И нередко – сама подает сигнал своему вещному пристанищу, как случилось с Шекспиром, или направляет отчаянную руку, как было с тем повесившимся поэтом.
В какой-то момент моих хождений по Равнине вечных вопросов я вдруг резко отверг высказывание Анатоля Франса о том, что человечество состоит, по сути, из мертвецов. В этом высказывании как бы подразумевалась загробная жизнь, а я тогда бился за здешнюю, земную жизнь тяжело больной матери. И мне уже было не до предположений, что там, за итоговой смертной чертой, могут запросто встретиться люди разных времен и народов. Тот душевный опыт, который я получил со смертью отца, давал мне иную формулировку состава человечества.
Кто, кроме нас, живых, может устроить такую посмертную вневременную встречу? Только в нас, в нашей памяти и сердце, могут столкнуться эпохи и порожденные ими характеры. Никому, кроме живых, не нужны мертвые статуи острова Пасхи, квантовая механика, слово Толстого. Без нас, живых, нет ничего. И человечество состоит только из живых, потому что и те, кто умерли, живут в нас…
Однако я не обманывался насчет окончательной истинности всей этой выстроившейся цепочки размышлений и отдельных ее звеньев. Но то, что для других, возможно, уже стало элементарным, я должен был в ту пору пропустить через себя сам.
4
Рассматривая на кладбище разновидные захоронения, я определил, что современный стиль памятника – это четырехгранный прямоугольный обелиск с боковыми крыльями и так называемым зеркалом впереди, то есть выступом, на котором высекается надпись и куда можно вмонтировать керамическую фотографию. Но в этом типе памятника очень важны пропорции – иначе памятник становится грубым и некрасивым. Что касается ограды, то сколько я ни ходил, мне долго не попадался достойный образец.
Наконец, я все же набрел на могилу подполковника М., во всех отношениях мне показавшуюся совершенством.
Да, это был образец могилы. Черная полутораметровая по вышине ограда выглядела одновременно и массивной и легкой, изящной. Состояла она из стальных квадратного сечения прутьев, взятых стальными лентами снизу и вверху, а в образовавшиеся квадраты были вписаны кольца. Венчался верхний орнамент литыми чугунными шишками яйцевидной формы. Памятник был современного типа, из черного полированного мрамора, с отличными пропорциями – и монументальный, и негромоздкий, и вся могила была превращена в цветник.
Я долго стоял у ограды и, завидуя, отмечал про себя вкус и роскошь, с которой убрана и отделана была эта могила.
«Да ведь это и стоит бешеные деньги, – подумал я, – такая ограда, мраморный памятник, цветник и еще мрамор по всему внутреннему периметру ограды…»
Мое жалованье командира батареи не давало мне возможностей оборудовать могилу отца подобным образом в скором времени.
Я решил начать с ограды – снял чертеж, потом еще заходил, чтобы примериться поточнее, посмотреть, как ограда скреплена в своих звеньях, как сделан замок.
И всегда, сколько бы раз и в какое время года я не приходил сюда, меня поражали вкус и чуть сдержанная роскошь, с которой эта могила неизменно убиралась. В городе еще не было роз и быть не могло еще с месяц – а у подполковника в большой красиво расписанной вазе стоял огромный букет белых роз. Говорливая женщина, живущая в одном из деревянных домов прямо на кладбище и убиравшая могилу моего отца, сообщила, что эти розы привезли самолетом из Крыма. Самой ранней весной, когда могилы все под снегом и робко текут первые ручьи, или поздней осенью в холодную слякоть и грязь по щиколотку чуть свернешь с главной асфальтированной дорожки, – здесь все оказывалось в совершенном порядке: ни снега, ни опавших листьев, между мрамором у ограды и мрамором цветника посыпано тертым кирпичом, и кирпич этот аккуратно утрамбован. И зелень, цветы.
Но ни разу, сколько ни заходил, мне не удавалось застать хозяйку могилы, как принято говорить на кладбище. Зато я несколько раз видел женщину, убиравшую могилу подполковника. Женщина эта была молчалива и добросовестна, просто и аккуратно одета. Она, как я догадался, не жила при кладбище, а приезжала специально. Убирала она тщательно, как убирают комнату.
И уже не сама могила, а желание узнать что-нибудь о подполковнике и его семье тянуло меня завернуть сюда по дороге. Я раздумывал над тем, как живет вдова подполковника. Постоянная забота о могиле говорила о том, что память об умершем хранится неизменно, глубоко любящим и скорбящим сердцем. На кладбище мне приходилось видеть и совсем заброшенные могилы, почти сравнявшиеся с землей, по которым проходили к оградам и памятникам те, кто бывали здесь более или менее часто. Видел я и регулярно посещаемые могилы. Но ни одна не содержалась постоянно с такой заботой и красотой.
5
Летом я вырывался в город из лагерей, куда войска выезжали после майских праздников и где нас ждал полигон, стрельбище и окрестные тактические просторы. В следующий за смертью отца год эти мои поездки связывались главным образом с посещением больницы, в которой находилась мать. Однажды, навестив ее, я поехал на завод, отыскавшийся неподалеку от кладбища, – там у меня приняли заказ на ограду. И оказалось, что облюбованная мною модель была сделана именно у них, так что даже не потребовался мой чертеж, только линейные размеры секций. Поговорив с мастером цеха, обещавшим вскоре сдать работу, я пошел на кладбище. Как обычно, по дороге завернул на могилу подполковника М. и увидел женщину.
Я сразу понял, что это – она. Дверца ограды была широко отворена, но женщина стояла в проеме, не входя внутрь на посыпанную толченым кирпичом землю. Стояла она неподвижно и глядела вниз – на основание памятника, на цветник.
Внутри, в ограде, не было скамейки – я давно обратил на это внимание. Да и посыпанная тертым кирпичом и аккуратно утрамбованная земля не предназначалась для хождения. Казалось, здесь все устроено так, чтобы, постояв немного, уйти опять в житейскую суету, не задерживаясь долго на кладбище.
Могила была расположена на хорошем месте – на боковой дорожке, рядом с одной из центральных: и не грязно, и не очень людно. Но привлеченные красотой и убранством могилы, прохожие останавливались, некоторые подходили вплотную и бесцеремонно разглядывали женщину, памятник, цветы и, отойдя шага два-три, говорили вслух что-то вроде:
– Слышь, подполковник какой-то. А это его жена, наверно. Пошли дальше.
Женщина продолжала стоять неподвижно. Я подошел поближе. Ей было на вид лет тридцать пять. Она была плотно сложена, упругое тело угадывалось под легким, но строгим костюмом. Я определил в ней женщину работающую, причем работающую много и энергично. Лицо ее я видел в профиль, одновременно и женственный и жестковатый – выпуклый лоб, короткий прямой нос, небольшой четкий подбородок. Русые волосы золотились от солнца. Ноги, шея, руки, лицо – все было покрыто ровным, южным загаром, натуральным южным, черноморским, с субтропическим лимонным оттенком, нанесенным совместной полировкой тамошнего моря, солнца и ветра. Так у нас в средней полосе не загорают.
«Вот мы как время проводим, на курортах, пока здесь наемная женщина убирает могилу мужа!» – подумал я с досадой.
Оказалось, что у меня возник образ вдовы подполковника до встречи с нею, и я был несколько обескуражен, столкнувшись с нею живой – совсем не такой, как предполагал.
«Что толку в розах, мраморе, в ограде – во всех этих внешних проявлениях верности и памяти, если в душе-то ничего нет!» – я был уверен в тот момент, что все это фарс, показное внимание, ибо женщина эта никак не походила на воображаемую мной разбитую горем вдову.
Более того, я видел ее – плотную, стройную, красивую, в отлично сшитом и дорогом костюме, видел ее загорелые ноги и знал, что на черноморском курорте кто-то обнимал эти плечи, пожимал руки, кто-то гладил грудь, и она смеялась, отвечала на поцелуи и старалась жить весело – такова жизнь…
И мужская обида за умершего поднималась во мне.
«Но тогда зачем же эта могила, зачем настойчивое, постоянное внимание к памяти мужа?»
Я раздумывал, а женщина стояла неподвижно и смотрела в одну точку – куда-то вниз, где цветник сочленялся с основанием памятника. Она не только не спешила обратно в житейскую суету, но, видел я, вовсе забыла, что есть еще какая-то жизнь вокруг. Поза ее не была бессильной, подавленной, но чем дольше она стояла, а я вглядывался в нее, тем сильнее убеждался, что это было горе, страдание.
«Нет, она не забыла и, верно, никогда не забудет прошлого», – сказал я себе немного погодя.
Конечно, она знала, что вернуть прошлое нельзя, что жизнь продолжается, и вот она – живет, хотя муж умер. Но то, что было у нее раньше, жизнь до смерти мужа – такая сильная зарубка на душе, которая никогда не зарастет, и она не хочет, чтобы зарубка эта исчезла.
Так думал я о переживаниях неизвестной мне женщины, а она все стояла неподвижно, и ничто вокруг не могло отвлечь ее – ни прохожие, ни шум деревьев, ни луч солнца, пробившийся сквозь листву на ее загорелое лицо.
Я ушел, а она еще продолжала стоять в дверях ограды. И мне больше не казалось фарсом ее внимание к могиле мужа, хотя сама она и не часто на эту могилу приходила.
6
Меня поразило то, как отъединено от всего окружающего мира и словно вне текущего времени стояла вдова подполковника на могиле мужа.
Свидание это было наполнено глубоким смыслом и чувством. Это было свидание с ним. И свидание с собою – прежней, той, которая была с ним. Свидание со своей прошедшей жизнью. И отчет перед ним и перед собой за жизнь нынешнюю. Отчет и обет, для которых есть, наверное, только два места – храм и кладбище…
В ее обет, думал я, не обязательно должно было входить дальнейшее безбрачие – живому человеку надо жить полной жизнью. И вообще смысл посещения кладбища ни в каком-то заклятии, но в том самоотчете, который делает эту жизнь достойной, истинной. Я уже приобретал опыт такой самопроверки.
Думая о вдове подполковника, я счел теперь, что она вполне могла быть, например, врачом и работать где-нибудь в военном санатории, скажем, в Крыму. Откуда и доставлялись розы на могилу. И еще могло статься, что при нем она не была такой сильной и собранной – он защищал ее, носил на руках, нежил и заботился. Но вот обвал, крушение, и теперь ей предстояло идти по жизни самой – за двоих. И он дает ей силы и благословение. А ее сердце благодарит его за все, за прошлое и настоящее…
Я ходил по кладбищу, понимая, что за каждой могилой скрыта своя история. И памятники на могилах казались мне конечными верстовыми столбами, обозначившими для некогда живых людей границу между здесь и там.
И еще я понимал, что прохожу лишь по первому кругу прикосновения к вечным вопросам бытия, на которые, возможно, и нет умственного ответа.
1961Последнее слово обвиняемого
Судебное следствие закончилось. Председатель военного трибунала, черноволосый коренастый подполковник, объявил прения сторон и предоставил слово пожилому генерал, высокому, прямому, седоватому и лысеющему. Это был сам прокурор Округа. Он легко, привычно взошел на трибуну, как на кафедру, положил перед собою кожаную приятного кофейного цвета папку, раскрыл ее и посмотрел поверх подсудимого в зал, не вглядываясь в отдельные лица, а лишь удостоверяясь, что все мы, присутствующие на суде, затихли в ожидании его речи. Затем он сделал небольшой уважительный свободный поворот в сторону председателя и членов трибунала.