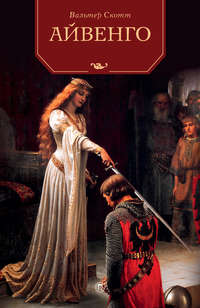
Айвенго
Седрик с величавой приветливостью встал навстречу гостям, сошел с почетного помоста и, ступив три шага им навстречу, остановился.
– Сожалею, – сказал он, – достопочтенный приор, что данный мною обет воспрещает мне двинуться далее навстречу даже таким гостям, как ваше преподобие и этот доблестный рыцарь-храмовник. Но мой дворецкий должен был объяснить вам причину моей кажущейся невежливости. Прошу вас также извинить, что буду говорить с вами на моем родном языке, и вас попрошу сделать то же, если вы настолько знакомы с ним, что это вас не затруднит; в противном случае я сам настолько разумею по-норманнски, что разберу то, что вы пожелаете мне сказать.
– Обеты, – сказал аббат, – следует соблюдать. Обеты суть те узы, которые связуют нас с небесами, или те вервии, коими жертва прикрепляется к алтарю; а потому, как я уже сказал, их следует держать и сохранять нерушимо, если только не отменит их святая наша мать-церковь. Что же касается языка, я охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка Хильда Миддлгемская, блаженная кончина которой была весьма сходна с кончиною ее достославной тезки, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Витби – упокой Боже ее душу!
Когда приор кончил эту речь, произнесенную с самыми миролюбивыми намерениями, храмовник сказал отрывисто и внушительно:
– Я всегда говорил по-французски, на языке короля Ричарда и его дворян; но понимаю английский язык настолько, что могу объясниться с уроженцами здешней страны.
Седрик метнул на говорившего один из тех нетерпеливых взоров, которыми почти всегда встречал всякое сравнение между нациями-соперницами; но вспомнил, к чему его обязывали законы гостеприимства. Он подавил свой гнев и движением руки пригласил гостей сесть рядом с собою, после чего велел подавать кушанья.
Прислуга бросилась исполнять приказание, и в это время Седрик увидел свинопаса Гурта и Вамбу, которые только что вошли в зал.
– Позвать сюда этих бездельников! – нетерпеливо крикнул Седрик.
Когда провинившиеся рабы подошли к помосту, он спросил:
– Это что значит, негодяи? Почему ты, Гурт, сегодня так замешкался? Что ж, пригнал ты свое стадо домой, мошенник, или бросил его на поживу бродягам и разбойникам?
– Стадо все цело, как угодно вашей милости, – ответил Гурт.
– Но мне вовсе не угодно, мошенник, – сказал Седрик, – целых два часа проводить в тревоге, и представлять себе разные несчастия, и придумывать месть соседям за те обиды, которых они мне не причиняли!
– Поистине, дядюшка Седрик, ты сегодня совсем не дело говоришь, – вмешался шут.
– Что такое? – отозвался хозяин. – Я тебя пошлю в сторожку и прикажу выдрать, если ты будешь давать волю своему дурацкому языку!
– А ты сперва ответь мне, мудрый человек, – сказал Вамба, – справедливо и разумно ли наказывать одного за провинности другого?
– Конечно нет, дурак.
– Так что же ты грозишься заковать в кандалы бедного Гурта, дядюшка, за грехи его собаки Фанге? Я готов хоть сейчас присягнуть, что мы ни единой минуты не замешкались в дороге, как только собрали стадо, а Фанге еле-еле успел загнать их к тому времени, когда мы услышали звон к вечерне.
– Стало быть, Фанге и повесить, – поспешно объявил Седрик, обращаясь к Гурту, – он виноват. А себе возьми другую собаку.
– Постой, постой, дядюшка, – сказал шут, – ведь и такое решение, выходит, не совсем справедливо: чем же виноват Фанге, коли он хромает и не мог быстро собрать стадо? Это вина того, кто обстриг ему когти на передних лапах.
– Кто же осмелился так изувечить собаку, принадлежащую моему рабу? – спросил Сакс, мигом приходя в ярость.
– Да вот старый Губерт ее изувечил, – отвечал Дамба, – начальник охоты у сэра Филиппа Мальвуазена. Он поймал Фанге в лесу и заявил, будто тот гонялся за оленем. А это, видишь ли, запрещено хозяином. А сам он лесной сторож, так вот…
– Черт бы побрал этого Мальвуазена, да и его сторожа! – воскликнул Седрик. – Я им докажу, что этот лес не входит в число охотничьих заповедников. Прошу извинить, почтенные гости. Мои соседи – не лучше ваших язычников в Святой земле, сэр рыцарь. Однако ваша скромная трапеза уже перед вами. Прошу откушать, и пусть добрые пожелания, с какими предлагаются вам эти яства, вознаградят вас за их скромность.
Угощение, расставленное на столах, не нуждалось, однако, в извинениях хозяина дома. На стол было подано свиное мясо, приготовленное различными способами, а также множество кушаний из домашней птицы, оленины, козлятины, зайцев и рыбы, не говоря уже о больших караваях хлеба, печеньях и всевозможных сластях, варенных из ягод и меда. Мелкие сорта дичи, которой было также большое количество, подавались не на блюдах, а на деревянных спицах или вертелах. Пажи и прислуга предлагали их каждому из гостей по порядку; гости уже сами брали себе столько, сколько им хотелось. Возле каждого почетного гостя стоял серебряный кубок; на нижнем столе пили из больших рогов.
Только что собрались приняться за еду, как дворецкий поднял жезл и громко произнес:
– Прошу прощения – место леди Ровене!
Позади почетного стола, в верхнем конце зала, отворилась боковая дверь, и на помост взошла леди Ровена в сопровождении четырех прислужниц.
Седрик был удивлен и недоволен тем, что его воспитанница по такому случаю появилась на людях, тем не менее он поспешил ей навстречу и, взяв за руку, почтительно подвел к креслу на возвышении, по правую руку от своего места. Все встали при ее появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Но не успела она сесть, как храмовник шепнул аббату:
– Не носить мне вашей золотой цепи на турнире, а хиосское вино принадлежит вам!
– А что я вам говорил? – ответил аббат. – Но умерьте свои восторги – хозяин наблюдает за нами.
Бриан де Буагильбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его, что ничем не была похожа на восточных султанш.
Ровена была прекрасно сложена и высока ростом, но не настолько высока, однако ж, чтобы это бросалось в глаза. Цвет ее кожи отличался ослепительной белизной, а благородные очертания головы и лица были таковы, что исключали мысль о бесцветности, часто сопровождающей красоту слишком белокожих блондинок. Ясные голубые глаза, опушенные длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность ее лбу. Густые волосы светло-русого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На обнаженных руках сверкали браслеты. Поверх ее шелкового платья цвета морской воды было накинуто другое, длинное и просторное, ниспадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена легкая шелковая вуаль с золотым узором.
Когда Ровена заметила устремленные на нее глаза храмовника с загоревшимися в них, словно искры на углях, огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Седрик увидел ее движение и угадал его причину.
– Сэр рыцарь, – сказал он, – лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать столь долгий и пристальный взгляд крестоносца.
– Если я провинился, – отвечал сэр Бриан, – прошу у вас прощения, то есть прошу леди Ровену простить меня; далее этого не может идти мое смирение.
– Леди Ровена, – сказал аббат, – желая покарать смелость моего друга, наказала всех нас. Надеюсь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире.
– Я еще не знаю, отправимся ли мы на турнир, – сказал Седрик. – Я не охотник до этих суетных забав.
– Тем не менее, – сказал приор, – позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться.
– Сэр приор, – отвечал Сакс, – где бы я ни путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в Ашби де ла Зуш, нас будет сопровождать мой благородный сосед Ательстан Конингсбургский с такой свитой, что нам не придется бояться ни разбойников, ни феодалов. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр приор, – надеюсь, что вино мое вам по вкусу, – и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, – прибавил он со смехом, – что предпочитаете пить кислое молоко, надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости.
– Нет, – возразил приор, рассмеявшись, – мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком, в миру же мы поступаем как миряне; поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику.
– А я, – сказал храмовник, наполняя свой бокал, – пью за здоровье прекрасной Ровены: эта страна не знала еще женщины, более достойной поклонения…
– Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр рыцарь, – сказала Ровена с достоинством и не поднимая покрывала, – лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине.
– Не много могу сообщить вам интересного, леди, – отвечал Бриан де Буагильбер. – Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие…
Его речь была прервана Вамбой. Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки, такой же милостью пользовались и любимые собаки.
– Уж эти мне перемирия! – воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. – Они меня совсем состарили!
– Как, плут? Что это значит? – сказал Седрик, с явным удовольствием ожидая, какую шутку выкинет шут.
– А то как же, – отвечал Вамба. – На моем веку было уже три перемирия, и каждое – на пятьдесят лет. Выходит, что мне полтораста лет.
– Ну, я ручаюсь, что ты умрешь не от старости, – сказал храмовник, узнавший в нем своего лесного знакомца. – Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне.
– Как так, мошенник? – воскликнул Седрик. – Сбивать с дороги проезжих! Надо будет тебя постегать: ты, значит, такой же плут, как и дурак.
– Сделай милость, дядюшка, – сказал шут, – на этот раз позволь моей глупости заступиться за мое плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, которая у меня правая рука, а которая левая. Но и тому, кто спрашивает совета у дурака, надо быть поснисходительнее к дураку.
Тут разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег.
– Впустить его, – сказал Седрик, – кто бы он ни был, все равно. В такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут покровительства у своего смертельного врага – человека. Дайте ему все, в чем он нуждается. Впрочем, Освальд, присмотри за ним хорошенько.
Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказания хозяина.
Глава V
Освальд воротился и, наклонившись к уху своего хозяина, прошептал:
– Это еврей, он назвал себя Исааком из Йорка. Хорошо ли будет, если я приведу его сюда?
– Пускай Гурт исполняет твои обязанности, Освальд, – сказал Вамба с обычной наглостью. – Свинопас как раз подходящий церемониймейстер для еврея.
– Пресвятая Мария, – молвил аббат, осеняя себя крестным знамением, – допускать еврея в такое общество!
– Как! – отозвался храмовник. – Чтобы собака еврей приблизился к защитнику Святого Гроба!
– Вишь ты, – сказал Вамба, – значит, храмовники любят только еврейские денежки, а компании их не любят!
– Что делать, почтенные гости, – сказал Седрик, – я не могу нарушить законы гостеприимства, чтобы угодить вам. Если Господь Бог терпит долгие века целый народ упорных еретиков, можно и нам потерпеть одного еврея в течение нескольких часов. Но я никого не стану принуждать общаться с ним или есть вместе с ним. Дайте ему отдельный столик и покормите особо. А впрочем, – прибавил он, улыбаясь, – быть может, вон те чужеземцы в чалмах примут его в свою компанию?
– Сэр, – отвечал храмовник, – мои сарацинские невольники – добрые мусульмане и презирают евреев ничуть не меньше, чем христиане.
– Клянусь, уж я не знаю, – вмешался Вамба, – чем поклонники Махмуда и Термаганта лучше этого народа, когда-то избранного самим Богом!
– Ну, пусть он сядет рядом с тобой, Вамба, – сказал Седрик. – Дурак и плут – хорошая пара.
– А дурак сумеет по-своему отделаться от плута, – сказал Вамба, потрясая в воздухе костью от свиного окорока.
– Т-с-с!.. Вот он идет, – сказал Седрик.
Впущенный без всяких церемоний, в зал боязливой и нерешительной поступью вошел худощавый старик высокого роста; он на каждом шагу отвешивал смиренные поклоны и казался ниже, чем был на самом деле, от привычки держаться в согбенном положении. Черты его лица были тонкие и правильные; орлиный нос, проницательные черные глаза, высокий лоб. Одежда еврея, значительно пострадавшая от непогоды, состояла из простого бурого плаща. На нем были большие сапоги и широкий пояс, за который были заткнуты небольшой ножик и коробка с письменными принадлежностями. На голове у него была высокая четырехугольная желтая шапка особого фасона: закон повелевал евреям носить их в знак отличия от христиан. При входе в зал он смиренно снял шапку.
Прием, оказанный этому человеку под кровом Седрика Сакса, удовлетворил бы требованиям самого ярого противника израильского племени. Сам Седрик в ответ на многократные поклоны еврея только кивнул головой и указал ему на нижний конец стола. Однако там никто не потеснился, чтобы дать ему место. Хозяин, наверно, мог бы поправить положение, но как раз в ту пору аббат завел с Седриком такой интересный разговор о породах и повадках его любимых собак, что тот никогда уже не прервал бы его и для более важного дела, чем вопрос о том, пойдет ли еврей спать без ужина.
Исаак стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечка, где бы он мог присесть и отдохнуть. Наконец пилигрим, сидевший на скамье у камина, сжалился над ним, встал с места и сказал:
– Старик, моя одежда просохла, я уже сыт, а ты промок и голоден.
Сказав это, он сгреб на середину широкого очага разбросанные и потухавшие поленья, раздул яркое пламя; потом пошел к столу, взял чашку горячей похлебки с козленком, отнес ее на столик, у которого сам ужинал, и, не дожидаясь изъявлений благодарности со стороны еврея, направился в противоположный конец зала.
Тем временем аббат продолжал разговаривать с Седриком об охоте.
– Дивлюсь я вам, достопочтенный Седрик, – говорил аббат. – Неужели же вы при всей вашей большой любви к мужественной речи вашей родины не хотите признать превосходство норманно-французского языка во всем, что касается охотничьего искусства?
– Добрейший отец Эймер, – возражал Седрик, – трубить в рог я умею, умею натравить собак на зверя, знаю, как лучше содрать с него шкуру и как его распластать, и отлично обхожусь без ваших новомодных словечек.
– Французский язык, – сказал храмовник со свойственной ему при всех случаях жизни надменной заносчивостью, – единственный приличный не только на охоте, но и в любви и на войне. На этом языке следует завоевывать сердца дам и побеждать врагов.
– Выпьем-ка с вами, сэр рыцарь, – сказал Седрик, – да, кстати, и аббату налейте! А я тем временем расскажу вам о том, что было лет тридцать тому назад. Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавиц, хотя в ней и не было выкрутасов французских трубадуров. Когда мы сражались на полях Норталлертона, боевой клич сакса был слышен в рядах шотландского войска. Помянем бокалом вина доблестных бойцов, бившихся там. Выпейте вместе со мною, мои гости.
Он выпил свой бокал разом и продолжал с увлечением:
– Сколько щитов было порублено в тот день! Сотни знамен развевались над головами храбрецов. Кровь лилась рекой, а смерть казалась всем краше бегства. Саксонский бард прозвал этот день праздником мечей, слетом орлов на добычу; удары секир и мечей по шлемам и щитам врагов, шум битвы и боевые клики казались певцу веселее свадебных песен. Но нет у нас бардов…
– Разве в английском войске никого не было, – сказала вдруг леди Ровена, – чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей Храма и иоаннитов?
– Простите меня, леди, – отвечал де Буагильбер, – английский король привел с собой в Палестину толпу храбрых воинов, которые уступали в доблести только тем, кто своею грудью непрерывно защищал Святую землю.
– Никому они не уступали, – сказал пилигрим, который стоял поблизости и все время с заметным нетерпением прислушивался к разговору.
Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение.
– Я заявляю, – продолжал пилигрим твердым и сильным голосом, – что английские рыцари не уступали никому из обнаживших меч на защиту Святой земли. Кроме того, скажу, что сам король Ричард и пятеро из его рыцарей после взятия крепости Сен-Жан д’Акр дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей Храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.
– Я бы охотно отдал тебе вот этот золотой браслет, пилигрим, – сказал Седрик, – если бы ты перечислил имена тех рыцарей, которые так благородно поддержали славу нашей веселой Англии.
– С радостью назову их по именам, – отвечал пилигрим, – и никакого подарка мне не надо: я дал обет некоторое время не прикасаться к золоту.
– Хочешь, друг пилигрим, я за тебя буду носить этот браслет? – сказал Вамба.
– Первым по доблести и воинскому искусству, по славе и по положению, им занимаемому, – начал пилигрим, – был храбрый Ричард, король Англии.
– Я его прощаю! – воскликнул Седрик. – Прощаю то, что он потомок герцога Вильгельма.
– Вторым был граф Лестер, – продолжал пилигрим, – а третьим – сэр Томас Малтон из Гилсленда.
– О, это сакс! – с восхищением сказал Седрик.
– Четвертый – сэр Фолк Дойли, – молвил пилигрим.
– Тоже саксонец, по крайней мере по материнской линии, – сказал Седрик, с величайшей жадностью ловивший каждое его слово. Охваченный восторгом по случаю победы английского короля и сородичей-островитян, он почти забыл свою ненависть к норманнам. – Ну, а кто же был пятый? – спросил он.
– Пятый был сэр Эдвин Торнхем.
– Чистокровный сакс, клянусь душой Хенгиста! – крикнул Седрик. – А шестой? Как звали шестого?
– Шестой, – отвечал пилигрим. – Имя его стерлось из моей памяти.
– Сэр пилигрим, – сказал Бриан де Буагильбер с пренебрежением, – его звали Айвенго, и я громко, при всех, заявляю, что, будь он в Англии и пожелай он на предстоящем турнире повторить тот вызов, который послал мне в Сен-Жан д’Акре, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.
– Ваш вызов был бы немедленно принят, – отвечал пилигрим. – Если Айвенго когда-либо вернется из Палестины, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами.
– Хороша порука! – возразил храмовник. – А какой залог вы мне можете предложить?
– Этот ковчег, – сказал пилигрим, вынув из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестное знамение. – В нем хранится частица Креста Господня, привезенная из Монт-Кармельского монастыря.
Приор аббатства Жорво тоже перекрестился и набожно стал читать вслух «Отче наш». Все последовали его примеру, за исключением еврея, мусульман и храмовника. Не обнаруживая никакого почтения к святыне, храмовник снял с шеи золотую цепь, швырнул ее на стол и сказал:
– Прошу аббата Эймера принять на хранение мой залог и залог этого безыменного странника в знак того, что, когда рыцарь Айвенго вступит на землю, омываемую четырьмя морями Британии, он будет вызван на бой с Брианом де Буагильбером.
– За отсутствующего Айвенго скажу я, – вмешалась леди Ровена, прерывая свое продолжительное молчание, – если никто в этом доме не желает за него вступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой.
В душе Седрика поднялся такой вихрь противоречивых чувств, что он не в состоянии был проронить ни слова во время этого спора. Радостная гордость, гнев, смущение сменялись на его открытом и честном лице, точно тени от облаков, пробегающих над сжатым полем. Домашние и слуги, на которых имя Айвенго произвело впечатление электрической искры, затаив дыхание ждали, что будет дальше, не спуская глаз с хозяина.
Глава VI
Когда пилигрим, сопровождаемый слугою с факелом, проходил по запутанным переходам огромного дома, его нагнал кравчий и сказал на ухо, что в его комнате уже собралось много слуг, которым хотелось бы послушать рассказы о Святой земле, а в особенности о рыцаре Айвенго.
– Пока еще рано, – уклончиво отвечал пилигрим и последовал за своим провожатым.
Но в небольшой, освещенной простым железным фонарем прихожей, откуда несколько дверей вели в разные стороны, их остановила горничная леди Ровены, которая повелительным тоном объявила, что ее госпожа желает поговорить с пилигримом, и подала ему знак следовать за ней. По-видимому, пилигрим считал неприличным отклонить это приглашение, как отклонил предыдущее; по крайней мере, он повиновался без всяких возражений, хотя и казалось, что он был удивлен таким приказанием.
Небольшой коридор и лестница, сложенная из толстых дубовых бревен, привели его в комнату Ровены, грубое великолепие которой соответствовало почтительному отношению к ней хозяина дома. Все стены были завешены вышивками, на которых разноцветными шелками с примесью золотых и серебряных нитей были изображены различные эпизоды псовой и соколиной охоты.
Комната освещалась четырьмя восковыми свечами в серебряных подсвечниках. Три горничные, стоя за спиной леди Ровены, убирали на ночь ее волосы. Сама она сидела на высоком, похожем на трон стуле. Весь ее вид и манеры были таковы, что, казалось, она родилась на свет для преклонения. Пилигрим сразу признал ее право на это, склонив перед ней колени.
– Встань, странник, – сказала она приветливо, – заступник отсутствующих достоин ласкового приема со стороны каждого, кто дорожит истиной и чтит мужество.
Потом, обратясь к своей свите, она сказала:
– Отойдите все, кроме Эльгиты. Я желаю побеседовать с пилигримом.
Девушки отошли в другой конец комнаты и сели на узкую скамью у самой стены, где оставались неподвижны и безмолвны, как статуи, хотя свободно могли бы шептаться, не мешая разговору их госпожи со странником.
Леди Ровена помолчала с минуту, как бы не зная, с чего начать, потом сказала:
– Пилигрим, сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я хочу сказать, – продолжала она с усилием, – имя Айвенго, которое по законам природы и родства должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме; но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где и в каких условиях оставили вы того, о ком упомянули. Мы слышали, что он задержался в Палестине из-за болезни и что после ухода оттуда английского войска он подвергся преследованиям со стороны французской партии, а нам известно, что к этой же партии принадлежат и храмовники.
– Я мало знаю о рыцаре Айвенго, – смущенно ответил пилигрим, – но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов в Палестине и собирался возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне, есть ли у него здесь надежда на счастье.
Леди Ровена глубоко вздохнула и спросила, не может ли пилигрим сказать, когда именно следует ожидать возвращения рыцаря Айвенго на родину, а также не встретит ли он больших опасностей в пути.
Пилигрим ничего не мог сказать относительно времени возвращения Айвенго; что же касается второго вопроса леди Ровены, пилигрим уверил ее, что путешествие может быть безопасным, если ехать через Венецию и Геную, а оттуда – через Францию и Англию.
– Айвенго, – сказал он, – так хорошо знает язык и обычаи французов, что ему ничто не угрожает в этой части его пути.
– Дай бог, – сказала леди Ровена, – чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем турнире, где все рыцарство здешней страны собирается показать свое искусство и отвагу. Если приз достанется Ательстану Конингсбургскому, Айвенго может услышать недобрые вести по возвращении в Англию. Скажите мне, странник, как он выглядел, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?