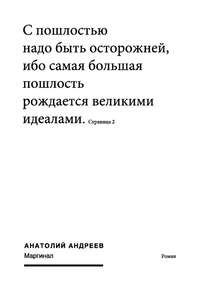
Маргинал

Анатолий Андреев
Маргинал
Скорее, роман, нежели повесть
Александру Горбачеву
1
«С пошлостью надо быть осторожней, ибо самая большая пошлость рождается великими идеалами. "Беззаветная верность любимой родине, семье и работе" – это пошлость, то есть истина, испохабленная низким вкусом».
Так написал я, Марков Геннадий Александрович, 1958 года рождения, по кличке Маргинал, которую я сам себе и дал и которой кроме меня никто не пользовался. Это пустяковое событие случилось летним июньским вечером 2003 года, в день моего рождения. Потом я сполз с подоконника, сел за письменный стол и продолжил фразу: «Пошлость смешна всегда, а любовь к родине, семье и работе может быть и не смешна. Тогда это уже не пошлость».
После этого я долго смотрел в окно, на небо, и неожиданно записал следующее.
«Благодаря чувству целостности во мне зреет и обостряется чувство маргинальное. Именно маргинальность как оборотная сторона универсальности становится способом существования. Я не вписываюсь целиком и без остатка ни в одно из известных мне измерений – не из каприза, а из нравственно-познавательной потребности. Я – русский, но вырос в Таджикистане, а живу в Беларуси; я родился на Урале, географически отделяющем Европу от Азии, в великой стране, которой уже не существует, а живу в маленьком, меньше Урала, государстве на окраине Европы, за которым начинается фактическая Азия, в государстве, которое пока никак не может определиться со своим прошлым, не говоря уже о настоящем или будущем; будучи филологом, склонен к философии (разумеется, и там, и там я одинаково чужой); живя семьей – стремлюсь к одиночеству; занимаюсь наукой, предмет которой в силу своей специфичности не является научным в традиционном смысле: вот почему изложение материала требует более чуткого внимания к проблемам стиля, чем это принято в собственно науке; взращен я на традициях западного рационализма, а приходится существовать в среде во многом азиатского менталитета; я отнюдь не аскет, но пальцем не шевелю, чтобы приблизить достаток; не уважая коллег, вынужден заручаться их поддержкой и благорасположением, чтобы войти в круг так называемых избранных: это лучший способ оградить себя от общения с коллегами; чувствуя мощь аналитического ума, я вынужден прикидываться интеллектуальной овцой; и т. д. Короче говоря, свой среди чужих, чужой среди своих.
Мне дано не просто видеть относительность всего, но жить по принципу дополнительности. В результате у меня сформировался комплекс «человека познания» (Ницше), комплекс мудреца. Дело в том, что если человек действительно и с вескими на то основаниями считает себя «аристократом духа», то со временем у него неизбежно проявляются черты особой духовной породы. (В данном случае я рассматриваю это не как предмет гордости или тщеславия, а как объект для изучения.)
Что роднит Сократа, Платона, Шопенгауэра, Ницше?
Чувство избранности. Их могучий интеллект настолько очевидно не соразмерен здравому рассудку, необходимому, чтобы прожить «достойную» жизнь, что проблема своей ниши превращается в их крест. Они безо всякого кокетства буквально чувствуют себя богоравными среди самых обычных людей. Каким-то образом им удается обнаружить главный человеческий «механизм» – и потом всю жизнь делиться сокровенным знанием, вначале с недоумением, а потом и с ужасом понимая, что мозги окружающих устроены на какой-то удивительный манер, не позволяющий им видеть и воспринимать, казалось бы, очевидное. Сталкиваясь с дремучим мифологическим сознанием, мудрецы рано или поздно приходят к выводу, что люди вокруг них – «всего лишь человечество», стадо умственно ограниченных существ. На смену благим порывам «послужить» людям приходит культ личности, избранности, уникальности, с присущей этому мироощущению трагической изнанкой.
По-человечески легко понять тех, кто, осознавая свой дар, вынужден считаться с мнением идиотов. Известная озлобленность, а то и брезгливость по отношению к духовному «быдлу» (опарышам) так естественны со стороны тех, кого всю жизнь ничтожество третирует, объявляя ненормальными, сумасшедшими, недоумками.
Чувство избранности приходит не от ущемленного тщеславия, не от неоправданно завышенного самомнения (это было бы неполноценное чувство избранности, даже лжеизбранности) – а как приговор, как трезвый и беспощадный диагноз. Мудрец начинает чувствовать себя обязанным только по отношению к истине, мнение же окружающих для него превращается в пустой звук, и даже в отсутствие звука. В известном смысле он становится выше людей. При желании можно и поиронизировать над «сверхчеловеками», королями без королевства; с другой стороны, достойна сочувствия их способность к познанию, безжалостно возвысившая их над людьми.
В таких случаях, как мне кажется, спасает все то же чувство маргинальности: чем дальше ты в духовном смысле дистанцируешься от непосвященных (процесс, увы, неизбежный и оправданный), тем более необходимо спутывать себя нитями общественных связей. В определенном смысле надо всегда быть «как все».
Мне как маргиналу хочется побывать и быть во всех шкурах: в молодости – шалопаем, в зрелые годы ощутить силу мысли, но одновременно в молодости предчувствовать свою незаурядность, а по зрелости не утратить некоторой склонности к легкомыслию.
Сила моя, как я ее ощущаю, проявляется в том, что я способен понять всех, давая при этом прочувствовать другим мою установку на принципиальность: понимать еще не значит одобрять, а тем более разделять. Слабость моя, если угодно, вытекающая из так обозначенной «силы», таится в осознании того, что вряд ли я могу быть понят в настоящих масштабах, а потому моим делам житейским так не хватает пафоса амбициозности.
Я восхищаюсь, если распространить мое чувство целостности на высокую культуру, оригинальными и глубокими подходами всех настоящих мыслителей, которые в своем культурном климате и контексте сумели обнаружить сногсшибательный ракурс и перевернуть, по отношению к общепринятым догмам, мир с ног на голову. Но до сих пор мыслители полемично увлекались акцентами, абсолютизируя верный, и тем не менее один в ряду равноправных других, момент. Целостная картина мира всегда карикатурно искажалась в угоду «акценту». Таков результат мышления от противного.
Все мыслители, противоречащие друг другу, правы. Теперь необходима правота иного порядка, которая могла бы объединить их всех, указав на относительную правоту каждого. Человечество накопило и в политике, и в экономике, и в области нравственности и философии столько программ-вариантов и такого качества, что настало время разглядеть их внутреннюю зависимость и взаимообусловленность.
Маргинал-сверхчеловек всегда был, есть и будет; он всегда противостоял норме, которая является таковой только в известном отношении. Пора уяснить, что путь к истине лежит не только через борьбу и противостояние (мы же привыкли: борьба за истину, в споре рождается истина) – но и через способность к согласию, компромиссу; путь к истине маргинален, ибо: маргинальна и сама истина. Установка на конфронтацию выдает воинствующих идеологов, духовность которых зиждется на изжившем свой позитивный ресурс архетипе: пусть мир рухнет, а истина останется. НЕмаргинальное мышление фанатиков, допускающее, что из двух истин одна всегда неистина, что «истина» важнее «неистины» настолько, что последнюю можно объявить вне закона без ущерба для первой, – такое мышление становится самым тяжелым недугом культуры.
Мир – един, а потому да здравствуют мыслители-маргиналы! Мы, маргиналы, и истиной не поступимся, и мир при этом сохраним».
Написал, небрежно бросил ручку на испещренный аккуратными каракулями листок и задумался.
Неожиданно для самого себя в душе моей забытым стоном зазвучала лирическая струна. Стихи я набросал на полях листка – там, где Пушкин рисовал женские профили или силуэты повешенных декабристов.
Что такое сорок пять?Время саван примерять?Или саван, иль фату —Белый холод за версту.Вот что значит сорок пять:Не начать – и не кончать…Я был почти тронут. Опять бросил ручку и подошел к окну.
Этим вечером я окончательно почувствовал себя маргиналом.
Да, забыл сказать: так случилось, что мама умерла в день моего рождения.
Это произошло ровно год тому назад.
2
Потребности рождают интерес, интерес рождает идеалы, идеалы рождают иллюзии, иллюзии удовлетворяют потребности…
В этой жизненно важной цепочке нет места правде.
Собственно, вчера вечером я хотел записать вовсе не это, а совершенно другое, не имеющее отношения ни к пошлости, ни к моим сорока пяти. Мне хотелось поведать миру некую правду о себе и о человеке. Но правда эта какая-то всеобщая, вездесущая, трудноуловимая. Неизвестно, с чего начать.
Честно говоря, начать можно с чего угодно: это не имеет принципиального значения. Вот я и оставил то, что получилось. Я не выбирал начала. Может, это оно выбрало меня?
В таком случае и я выберу свое начало.
И начну я с того, что за окном у меня был март. Логично было бы начать не с вечера, а с ранней весны. Начало – не вечерняя, а весенняя категория.
Неожиданно выяснилось, что у марта неустойчивый характер. Оказалось, что это все же отчасти весенний месяц, а не зимний, как могло кому-то показаться. Почти три недели хмуро хозяйничала зима, потом под солнечный аккомпанемент налетел ледяной ветер «дыхание Арктики», а под конец широкий распахнутый март пленил простодушием и искренностью: ничего особенного, просто с неба исчезли облака. И что же?
Небо поднялось и улетело. Вместо обжитого серого мирка, вместо давящего небосводика на вас невесомо обрушился беспредельный, залитый солнцем голубой океан.
Впечатление было такое: грянула весна (спешу заметить: этот оборот в данном случае не имеет ничего общего с расхожим штампом, с пошлостью). Случилась долгожданная неожиданность. На мокром асфальте и в мокрых лужицах, салютуя свирепыми бликами, яростно резвилось светило. Оно отовсюду лезло в глаза, дробилось режущими вспышками, назойливо заигрывая с прохожими в стиле неотвязчивых папарацци. Весной каждый прохожий оказывается в центре внимания, в центре праздничного карнавала.
Что еще?
Зимой, летом или осенью природа продуманно принаряжена. Белые овалы сугробов, нежно разлохмаченная бахрома зелени или пестрые костры осени – одежка сама по себе веселит и радует глаз. Ранней весной, первыми весенними днями пленять особо нечем: только черные худые ветки и грязноватая земля, кое-где в мохнатых заплатах из прошлогодней обесцвеченной травы. Голые стволы коротко обрубленных каштанов напоминали сбитых мускулистых бультерьеров. Вот и вся мартовская агрессия, да и та создана людьми.
Никаких украшений, никакой косметики. В этом – честность и покоряющая бесхитростность марта. Что-то трогательное, детское свойственно этому краткому месяцу. Он, словно угловатый неуклюжий подросток, обещает вскоре расцвести и порадовать гладкими формами, и потому сейчас немного смущается. Что еще?
Поразительный диссонанс: под весеннее тепло не было ни весенних запахов, ни звуков. Если хватало сил под вечер добрести до Свислочи (перед тем, как завернуть домой, в сладкое душистое тепло), чтобы посмотреть снизу вверх на парные башенки церкви и костела, на прущих по набережной, словно в нерест, стайки крикливых подростков, на покрасневшее от дневного напряжения удрученное светило, холодным оранжевым мечом рассекавшее обмелевшую речку, – можно было услышать нескромное и глупое кряканье чаек. Ломаные линии крыльев, словно молнии, складывались и терялись в очертаниях плотных пухловатых комков; головки этих наглых пернатых облегали черные маски гангстеров с прорезями для глазок. Серовато-белые хлопья сбивались в стаи, пронзительными воплями оповещая весь мир о каком-то небывалом торжестве. Вот и вся звуковая аранжировка. Впрочем, под голые сучья и грязную землю – то, что надо.
Вообще-то меня не март интересует. И не апрель. И не май…
Меня интересует март как способ отвлечься от неразрешимых проблем.
Вот, поймал мысль. Правда непременно состоит из неразрешимых проблем. Это – правда. Если вы успешно решаете свои проблемы, щелкаете их одну за другой, как чайки водяные пузыри, – вы имеете дело с мелковатой правдой. Тоже вариант, как говорится. Но тогда вам не нужен март, апрель, июнь… Вы меня понимаете? Вы просто живете, и апрель или август становятся условным временем года. Вы не отвлекаетесь на них, не интересуетесь ими, вы в них существуете, не замечая роскошных декораций.
Нет, не то. Кажется, я окончательно запутался.
Будем разбираться.
3
Загадочный человек – это человек, который сам себя не понимает. Вот почему я презираю загадочных людей. Вот почему я слегка презираю себя – но не нахожу в этом никакого удовольствия. Это возвращает мне самоуважение, но не убивает презрение.
Черт, я, кажется, готов часами говорить о презрении и самоуважении, смотреть на март – только бы не замечать правды. Я научился мечту переживать как реальность, а реальность превращать в мечту (между прочим, не самый простой из известных мне фокусов) – лишь бы отвлечься от правды.
Нет, товарищ дорогой, этот трюк у вас не пройдет. Мы вас ткнем вашей рыжей мордой в нечто предметное и фактическое. Расскажите людям, что случилось. Людям будет интересно.
Может быть, это началось 8 Марта, в Международный женский день, праздник всех баб?
Мы собрались на кафедре, и в моем выстраданном тосте коллеги и одновременно женщины усмотрели нечто двусмысленное. Кто-то проявил нетерпение нервическими жестами, кто-то заговорил, создавая равнодушный шумок, кто-то зашелся визгливым торжествующим смехом. Это была пошлая среда в чистом виде – то, что я ненавижу до болезненного удовольствия.
– Ангелы мои! Идите вы все на х. р-р! Без разбора чинов и числа подкрылышек! – взволнованно закончил я свою, якобы, двусмысленную речь, не повышая, однако же, голоса.
Ангелы встрепенулись. Видимо, я позволил себе что-то по-настоящему их заинтересовавшее, а они, очевидно, не пропускали ни одного моего слова. Мне знаком этот лицемерный эффект: все читают мои работы, и при этом делают вид, что моих работ не существует. Только и ждут, когда я допущу грубый промах, чтобы налететь, как чайки, и выклевать тебе очи. Клюйте, клюйте, голуби.
– Гена, Геночка, успокойся! – налетела на меня розовым ветром Амалия Сигизмундовна Восколей, дама с незыблемой репутацией – настолько незыблемой, что вполне могла позволить себе открыто посочувствовать оконфузившемуся оратору. У нее даже нижнее белье розовое, и вся она такая чистая и недоступная, подчеркнуто воспринимающая мир сквозь розовые очки. Правда, у нее была-таки одна слабость, а именно: в тот момент, когда вы ее романтично имеете сзади, она любила поболтать с мужем по телефону, о том, о сем, а больше ни о чем. Просто потрепаться, как истинная женщина. На фоне крупных достоинств эта милая слабость как-то не бросалась в глаза. Вы ее практически не замечали, и даже охотно прощали Амалии. Я, во всяком случае, охотно прощал.
На лице у моей опекунши было выгравировано примерно следующее: да, я, Амалия Восколей, в здравом уме бросаюсь на амбразуру и закрываю ее своей пышной и достаточно упругой, на зависть многим, грудью. Вы все прекрасно видите. Зачем я это делаю? Я гашу скандал, и не даю ему разгореться. Если угодно, я рискую своей розовой, ни разу не подмоченной репутацией. Во имя чего? Во имя вас, обожаемые коллеги. Я совершаю мой маленький и скромный подвиг во имя сплоченного коллектива и посвящаю свой святой порыв вам, милые женщины. Нейтрализуем этого гаденыша-мужчинку и не дадим ему испортить наш праздник! Понимаете? Не поддадимся на провокацию! Ощетинимся штыком и бетоном. Враг не пройдет. Не так ли?
Манера задавать бессмысленные риторические вопросы была отличительной чертой лектора Восколей.
Это послание коллегам и, главное, декану, украшавшему своей несколько помятой персоной бурный женский праздник, крупными печатными буквами и, казалось, кириллицей, было монументально начертано на лице Амалии, привыкшем к хорошей косметике. Кирилл и Мефодий, любимцы Амалии, возрадовались бы, обнаружив в самом неожиданном месте следы славянской письменности. Умело скрываемые розовыми очками морщины на сей раз свидетельствовали об озабоченности. Не более того. Уйдут заботы – исчезнут морщины. Это были как бы ситуативные морщины. Их добавляли Амалии такие, как я.
Теоретически Амалия давала мне шанс замять инцидент, взять свои слова назад и остроумно покаяться, повеселив женщин. Мне даровали возможность выйти сухим из воды. Этот подтекст, несомненно, добавлял жесту Амалии неброского благородства.
Одновременно для меня мелким шрифтом, буквально петитом, терявшимся где-то в морщинах под глазами, был пущен подстрочником иной семантический код. «Генка! – гласило послание. – Оцени мой жест! Разве эти курицы стоят твоего божественного гнева? Они его не стоят, ты же сам знаешь, Кирилл ты этакой. Мы продлим наш праздник у меня в постели. Мой высокопоставленный засранец-муж укатил в командировку в Москву. К своей толстой молодухе, не сомневаюсь. Скатертью дорога, мягкого купе, не так ли? Я сегодня о его отъезде громогласно оповестила всех уже три раза. Даже декан насторожился, ты заметил? Думаю, он ко мне неравнодушен, но при чем здесь я? А ты делаешь вид, что не слышишь и не видишь. Ах ты, шалун Мефодий. Надо держать ушки востро. Торчком. Ты согласен?
Кстати, галстук у нашего декана сегодня вполне приличный. Не разберу узора, но что-то в этом есть. Фиолетовый оттенок все портит, ты не находишь? Наверное, жена, эта глупая стерва Маруська, что-то напутала. Иначе бы он сегодня опять нацепил на себя эту петлю-удавочку в пошлую зеленоватую полосочку. Этакий упитанный питон. Фи-и… Ну, и вкус у нее! Смотреть надо за мужем. А Маруська, стерва, постоянно смотрит на тебя. Ловит момент, чтобы посочувствовать. А сиськи у нее никакие, просто кукиши в полдюйма, тут ты прав, дорогой. Дюймовочка, надо же. Ты иногда бываешь очаровательно остроумен, дорогой.
Так зачем нам портить себе праздник? Уймись, лишний человек, смирись, лапочка…»
Мне удалось шепнуть Амалии что-то такое, кажется, по поводу ее отношений с фиолетовым деканом, что лицо ее стало цвета трусиков, она как-то осела и злобно скукожилась. В ближайшее время мне явно грозил испепеляющий залп из тысячи орудий. Эта любезная леди легко превращалась в каракурта. Как ей это удавалось? О, эта извечная женская загадочность…
Между прочим, я оказался прав в своих опасениях.
В качестве запоздалого мстительного выпада с удовольствием отмечу одну маленькую неточность. Во внутренний монолог Амалии вкралась ошибочка. Дюймовочкой я называл Марусеньку вовсе не за грудки-ягодки в полдюйма, а за дюймовый клитор прелестного образца. Есть разница. В постели Маруська была покруче Амалии. При некотором внешнем сходстве они различались как вулканы действующий и потухший. Причем, Амалия действовала публично, но гасла в постели, а Маруся – наоборот. Однако есть темы, которые я предпочитаю с женщинами не затрагивать. Не поймут-с. Да и не по-джентльменски это как-то.
А может, путь к правде начался со сцены бунта и ярости в кабинете у декана (это было в самом начале марта)?
Я врезал своему всесильному начальнику по его постной питоновской морде, да так ловко зацепил хуком, что тот брякнулся на задницу, обнажив светлые носки на щиколотках. Кажется, это было единственное светлое пятно во всем его облике. Он никак не ожидал, что я окажусь столь виртуозным рукосуем. Да я и сам не ожидал, по правде сказать. Я годами отрабатывал удар по роже воображаемого противника, делая короткие резкие выпады корпусом вправо и влево у себя на тесном балконе. И никогда не представлял себе противником декана, этого гладкого шакала, вполне миролюбивого на вид. И вот, поди ж ты… Противником я представлял себе какое-то рогатое и консервативное Общественное Мнение с гнусным хоботом и большими хрящеватыми ушами. Вот ему-то и предназначался мой славный хук.
Декан сидел на полу и вращал глазами. На лице его не было ни тени ярости, но не было и следа растерянности. Своим точным ударом я приговорил себя, это стало ясно нам обоим. Декан, Ричард Рачков, пардон, Ричард Ромуальдович Рачков, разумеется, Ричард Львиное Сердце (филологическое мышление – это непрерывный производитель пошлости: умный и тонкий человек всегда уворачивается от поверхностной ассоциации или иронически обыгрывает ее, а филолог – наслаждается ею, радуясь, как дурень сладкому петушку, ломится в открытую дверь, как деревенщина; не люблю я филологов…) сидел на заднице и вытирал кровь с губы галстуком в зеленую полосочку. Вот почему 8 Марта на нем был другой галстук, и Маруська здесь вовсе не при чем. А вкус у Маруськи, кстати, отнюдь не такой пошлый, как у некоторых. Уж с чем с чем, а со вкусом у Маруськи все в порядке. Она не носит розовое белье. Ее комплекты атласного белого снимать всегда так приятно…
А может быть, все началось с причины, по которой я ударил Рачкова – с Екатерины Ростовцевой? Хотя злые, но глупые языки постараются сделать причиной добрую и беззащитную Маруську. Еще бы: одним выстрелом выцелить и убить, то есть дискредитировать в глазах Общественного Мнения, сразу трех зайцев, три масштабные лакомые мишени: декана, деканшу и популярного профессора (я имею в виду себя). Убери троих – и многим сразу станет легче жить.
Начать с Ростовцевой? Но Рачков, вполне вероятно, убежден, что я ударил его из-за Петра Присыпкина, моего бывшего лучшего друга, ныне покойного. Рачкову выгодно думать именно так. Общественное Мнение, кстати, с удовольствием рассмотрит и эту версию.
А может, начать с того дня, когда я родился?
А потом случилось так, что мама умерла в тот самый день, когда я родился, сорок четыре года спустя после моего рождения. Начать с мамы?
С ее руки?
С детского садика?
Так можно добраться до Адама и Евы.
Неужели проблемы каждого человека начинаются со времен Адама и Евы?
4
Сказать, что я типичный бабник – было бы не совсем справедливо. Сказать, что я безгрешен по этой части – значило бы оскорбить чувство справедливости Всевышнего. И здесь у меня зияла маргинальная середина.
Я бы мог назвать себя антифеминистом, если бы серьезно относился к женщинам. Я отношусь к ним серьезно в том смысле, что они являются частью моей жизни, средой обитания и, так сказать, показателем качества жизни. Как солнце или ландшафт. Скажите, вот вы серьезно относитесь к солнцу или ландшафту? Относитесь как угодно, но вы вынуждены с ними считаться. Солнце может превратить вас в головешку, а может – покрыть здоровым загаром; ландшафт вполне способен испортить настроение, но тот же ландшафт в сочетании с солнцем может и поднять настроение. Получается, что я в определенном смысле уважаю женщин.
Видимо, судьба, не разобравшись в тонкостях моих отношений с женщинами, в отместку за мое скептическое отношение к прекрасному полу, рвущемуся в сильные миры сего (прекрасное редко бывает сильным, Mesdames), заботливо окружила меня незаурядными экземплярами, которые в моих глазах только доказывали заурядность их пола. Помимо прекрасной, образцовой жены Анны, у меня была замечательная дочь Елена. О Маруське и Амалии (за глаза я ласково звал ее Малькой) вы уже знаете. Обе были далеко не Красные Шапочки, а Малька так вообще была… Боюсь, Малька читала эту сказку и не сочтет мое суровое сравнение за комплимент, а с ней надо держать уши востро: она воспринимала общение только как назойливые комплименты (со стороны партнера) и как тонкое увиливание от комплиментов, имеющее целью дальнейшее выколачивание комплиментов из утомившегося партнера (со своей стороны). У меня с ними разыгрывались хотя и продолжительные, но легкие интрижки, привлекательные именно своей необязательностью. Как говорится, ничего личного.
Это были чистые, честные и остепененные женщины (обе – кандидаты наук, точнее не скажешь; слово кандидат проясняло их отношение не только к науке, но и к жизни вообще: они вечно на что-то претендовали, были первоочередными кандидатками, но поступков не совершали нигде и никогда), превыше всего на свете ставившие свои желания, и сами того не сознававшие, что, по-моему, делало им честь. У них было ровно столько ума, чтобы разобраться с первым уровнем своих желаний и понять, что ум – это то, что есть у меня. Я подозреваю, что к уму они относились так же, как к гениталиям: то, что есть у мужчины, не должно быть у женщины. Завидовать тут глупо. Они меня уважали – за то, что во мне есть именно мужское, что так привлекает женщин. Ум, например. А уважение со стороны женщин – это уже роскошь. Чем я мог им отплатить?
Вниманием. Они мне открывали тайну женщины, а я внимательно анализировал и сопоставлял. Вот вам мои холодные наблюдения, плод серьезного отношения к женщине, изложенные в моей излюбленной реферативной форме. Конечно, здесь присутствует известное упрощение, но в нем что-то есть. Упрощение – это результат понимания. Или заблуждения.