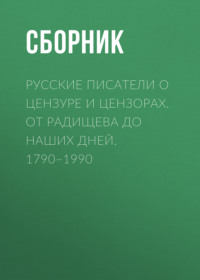
Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790–1990
46
Сам государь велит печатать без тебя… – т. е. без цензуры: так, в виде исключения, была напечатана «История государства Российского» Н. М. Карамзина.
47
Певец пиров – имеется в виду Е. А. Баратынский, автор изданных в 1821 г. «Пиров».
48
Барков Иван Семенович (1732–1768) – переводчик и автор непристойных стихотворений, распространявшихся в списках.
49
Радищев… цензуры избежал… – Хотя Радищев действительно напечатал «Путешествие из Петербурга в Москву» в своей домашней типографии, оно, по существующим тогда правилам, все же вышло в свет с дозволения петербургского полицмейстера.
50
Пушкина стихи в печати не бывали… – Комментаторы расходятся в толковании этой строки: одни полагают, что речь идет о стихах В. Л. Пушкина, особенно о его «Опасном соседе», не «попавших в печать», другие – что поэт намекает на свои вольнолюбивые стихотворения, широко расходившиеся в рукописных списках. Справедлива все же первая точка зрения.
51
Шаликов Петр Иванович (1768–1852) – поэт, редактор официозной газеты «Московские ведомости», эпигон Карамзина, что вызвало много эпиграмм, исходивших из арзамасского круга.
52
Наказ Екатерины – руководство, составленное Екатериной II для разработки нового уложения законов (1767).
53
Сатирик превосходный – Фонвизин.
54
Кутейкин – семинарист, персонаж комедии «Недоросль».
55
Хемницер Иван Иванович (1745–1784) – поэт-баснописец.
56
Наперсник Душеньки – Ипполит Федорович Богданович (1733–1803), автор стихотворной повести «Душенька» (1778), имевшей большой успех.
57
Дней Александровых прекрасное начало… – начало царствования Александра I. В частности, некоторый либерализм его сказался на первом цензурном уставе 1804 г.
58
Не смел отечество назвать… – В эпоху Павла I запрещены были к употреблению тринадцать слов; среди них слово «отечество», вместо которого предписывалось писать и говорить «государство».
59
Бентам Иеремия (1748–1832) – английский законовед. Его сочинения выходили в русском переводе в 1805–1811 гг.
60
Миллот – Милло Клод-Франсуа-Ксавье (1726–1785), аббат, французский историк XVIII в.; его новый перевод «Всеобщей истории» был издан в русском переводе со значительными цензурными искажениями.
61
Хоть умного себе возьми секретаря… – В басне Крылова «Оракул» говорится о судьях, «которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь».
62
Тимковский Иван Осипович (см. Перечень цензоров) не разрешил «Русалку», но позволил напечатать семнадцать стихотворений Пушкина в 1817–1820 гг. и «Руслана и Людмилу».
63
Заветные слова божественный, небесный… – см. ранее о цензоре А. И. Красовском, запретившем в «Стансах к Элизе» Олина строчку «Улыбку уст твоих небесную ловить» и эпитет «божественные» в применении к гуриям.
64
Венца Екатерины… лавр единый… – подразумевается Г. Р. Державин.
65
Святой отец – упомянутый выше предыдущий министр народного просвещения и духовных дел кн. Александр Николаевич Голицын, которого современники называли «святошей».
66
Омар – калиф, сжегший, по преданию, Александрийскую библиотеку (см. примеч. к «Дому сумасшедших» А. Ф. Воейкова).
67
Спасая Бантыша – В. Н. Бантыш-Каменский, старший сын известного историка.
68
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1855) – реакционный деятель александровского времени, злейший обскурант, в качестве попечителя учебного округа (1819–1826) устроивший погром Казанского университета за «безбожное направление».
69
Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) – входил в «Арзамас», затем, в качестве директора Петербургского университета (1819–1823), его разгромил.
70
Креститель Галича – так иронически назван Кавелин, возбудивший в 1821 г. дело против профессора Петербургского университета А. И. Галича (лицейского профессора Пушкина) за его «атеистические» лекции и книгу «История философских систем». Галич вынужден был признать свое учение «ложным и вредным», сам же Кавелин повел его в церковь, где священник читал над ним молитву и кропил его святой водой (отсюда: «креститель Галича»).
71
Один из французских публицистов… – Бенжамен Констан в «Размышлениях о конституциях и гарантиях» (1814).
Пушкин, работавший над очерком в 1834 и в начале 1835 г., намеревался напечатать его в своем «Современнике», но он так и остался неопубликованным при жизни. «…Собравшись в дорогу, – сообщает Пушкин в конце первой главы, – я зашел к старому моему приятелю **, коего библиотекой я привык пользоваться. Я попросил у него книгу скучную, но любопытную в каком бы то ни было отношении… “Постой, сказал мне **, есть у меня для тебя книжка”. С этими словами вынул он из-за полного собрания сочинений Александра Сумарокова и Михаила Хераскова книгу, по-видимому изданную в конце прошлого столетия. “Прошу беречь ее, – сказал он таинственным голосом. – Надеюсь, что ты вполне оценишь и оправдаешь мою доверенность”. Я раскрыл ее и почитал заглавие “Путешествие из Петербурга в Москву. СПб. 1790 год…” Книга, некогда прошумевшая и навлекшая на сочинителя гнев Екатерины, смертный приговор и ссылку в Сибирь; ныне типографическая редкость, потерявшая свою заманчивость…» Полагают, что под двумя звездочками скрывался старинный пушкинский приятель, собиратель библиофильских редкостей С. А. Соболевский. Однако Пушкин сам приобрел в 1833 г. один из редчайших, уцелевших от сожжения экземпляров «Путешествия…». Он очень гордился этим приобретением, оставив на форзаце автограф: «Экземпляр бывший в тайной канцелярии заплачен двести рублей».
А. С. Пушкин, который, надо сказать, относился к этой многострадальной книге и ее автору весьма критически и без принятого (особенно в позднейшее время) безоговорочного преклонения и восхищения. По мнению С. А. Фомичева, не стоит ставить знак равенства между мыслями и рассуждениями «путешественника» и самого Пушкина: «Мысль – в пределах закона? Стало быть, сама мысль может быть подсудна? Вполне очевидно, что это не может быть пушкинским убеждением». Спор с Радищевым ведет «московский старожил», исповедующий консервативно-охранительные взгляды, но не чуждый идеям «просвещенного монархизма». Пушкин в этом сочинении как бы сталкивает два взгляда – консервативный и радикальный: «Пушкин противостоит посягательству кого-либо на поиски истины, невозможные без полной свободы мысли» (Фомичев С. А. Скучная книга // Фомичев С. А. Праздник жизни. Этюды о Пушкине. СПб., 1995. С. 298).
Процитировав слова о свободе мысли: «…как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом», исследователи замечают: «Пушкин был совершенно прав, потому что ни в одном обществе свобода печати не бывает абсолютной. Через несколько десятилетий на другом континенте Марк Твен остроумно заметит, что пора подумать о том, как оградить свободу от печати… Различия начинались там, где возникал вопрос, что понимать под “обществом”, и каковы условия, которые оно налагает. В России было несколько обществ и много условий». Они называют далее «общество» царя, III отделения, двора, «общество Фаддея Булгарина», «общество Пушкина и его друзей». «И были другие общества, вплоть до “общества” неграмотного крепостного крестьянства» (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»:
Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. М., 1986. С. 241). Какое из них – вот вопрос!..
Отношение Пушкина к цензуре затронуто и в его статье «Александр Радищев», которую он столь же безуспешно пытался опубликовать в «Современнике». Касаясь рассуждений Радищева о цензуре, Пушкин замечает: «…он злится на ценсуру; не лучше ли будет потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвою бессмысленной и своенравной управы; а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой и преступной? Но всё это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы – чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».
Несмотря на такую осторожную тональность, статья вызвала следующую резолюцию министра народного просвещения Уварова (18 августа 1836 г.): «Статья по себе недурна, и с некоторыми изменениями могла быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения». Через четыре года он же, когда вновь рассматривалась эта статья на предмет разрешения ее публикации в посмертном собрании сочинений, писал: «При рассмотрении этой статьи я нахожу, что она, по многим заключающимся в ней местам, к напечатанию допущена быть не может, и потому предлагаю сделать распоряжение о запрещении её» (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 107–108).
Характерно, что либеральный профессор и цензор А. В. Никитенко, автор знаменитых дневников, рассматривавший тексты собрания сочинений 1841 г., в числе «сомнительных» текстов указал именно эту главу: «Статья о ценсуре, где автор опровергает разные нападки на необходимость ценсуры». Этот факт точно прокомментирован: «Статья о ценсуре» и «Этикет» (отрывки из «Путешествия из Москвы в Петербург») вызывали сомнение, ибо касались – пусть в «благонамеренном» духе – тех форм социальной жизни, которые вообще не подлежали обсуждению со стороны частного лица» (Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Указ. соч. С. 239). В связи с этим важно заметить, что ни один из текстов, приведенных выше, не увидел свет при жизни автора; иное дело, что «презревшие печать», как сам Пушкин писал в раннем «Городке» о бесцензурных рукописях, они были известны современному ему обществу. Цензурные учреждения, надо сказать, всегда крайне щепетильно и ревниво относились к «чести своего мундира», тем более что в их распоряжении находились эффективные средства, пресекающие любую возможность не только критики, но даже упоминания в печати (как это было в советские времена) самого факта их существования.
Надежды поэта на смягчение цензуры не оправдались. Дневник Пушкина заканчивается словами: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова», а Денису Давыдову он пишет: «В чем провинились русские писатели… Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царств<ования> покойн<ого> имп<ератора>, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову».
Как уже говорилось в предисловии, в нашу антологию не входят отрывки из писем, дневников и записных книжек писателей. Если же говорить о Пушкине, то задача эта особенно сложна: отзывы и сужения о цензуре содержатся более чем в сорока письмах. Помимо этого, речь о ней почти непременно заходит в исполненных чувства собственного достоинства письмах, адресованных А. Х. Бенкендорфу как начальнику III Отделения, выступавшему своего рода посредником между Пушкиным и царем (его знаменитое обещание: «Я буду твоим цензором!»). Имеет смысл привести здесь лишь два эпизода, зафиксированных в письмах Пушкина из ссылки, в которых вещи названы своими именами, без оглядки на цензуру. 6 февраля 1823 г. он пишет из Кишинева Вяземскому, напечатавшему в «Сыне Отечества» (1822. Ч. 82. № 49) восторженную статью о «Кавказском пленнике», в которой, между прочим, содержался эвфемистический намек на цензурные купюры в поэме: «<…> мы, с своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии, в полном убеждении, что бдительная цензура, которую нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах дозволенного» (подробнее см. комментарии Б. Л. Модзалевского в кн.: Пушкин А. С. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. Т. 1. 1815–1825. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 267). Пушкин одобрил этот пассаж: «Благодарю за щелчок по цензуре, но она и не этого сто́ит: стыдно, что благороднейший класс народа, класс мыслящий, как бы то ни было, подвержен самовольной расправе трусливого дурака. Мы смеемся, а кажется, лучше бы дельно приняться за Бируковых; пора дать вес своему мнению и заставить правительство уважать нашим голосом – презрение к русским писателям нестерпимо; подумай об этом на досуге, да соединимся – дайте нам цензуру строгую, согласен, но не бессмысленную…» Однако в следующем письме, в марте 1823 г., Пушкин все-таки предупреждает Вяземского об опасности предложенного им совместного выступления: «Твое предложение собраться нам всем и жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подают рапорт, такой поступок примется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь ужасные подозрения и причинить большие беспокойства… Соединиться тайно – но явно действовать в одиночку, кажется, вернее». Свое намерение «действовать в одиночку» Пушкин выполнил, написав первое «Послание цензору», направленное против Бирукова.
В еще более решительной тональности звучит отрывок из письма тому же Вяземскому, посланного из Одессы 4 ноября 1823 г.: «Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставить перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание… Цензура наша так своенравна, что с нею невозможно и размерить круга своего действия – лучше об ней и не думать <…>»
Резко отрицательно относился Пушкин к цензуре «предшествующего царствования», о чем свидетельствует черновик его деловой записки для Бенкендорфа от июля-августа 1830 г.: «Литераторы во время царствования покойного императора были оставлены на произвол цензуре своенравной и притеснительной – редкое сочинение доходило до печати». Несмотря на все инвективы и филиппики, направленные против гонителей мысли, он все-таки полагал, что без «просвещенной» цензуры государство обойтись не может, что умеренное ограничение свободы печати необходимо – но в строго очерченных законных пределах. Резкая же отмена цензуры, учитывая состояние общества, сразу же обнаружит, выведет на поверхность все то черное и рабское, что таилось до времени и не могло обнаружиться благодаря правительственным стеснениям. Цензура, на его взгляд, мало мешает истинному творцу, но может послужить заслоном против разнузданной журнальной пошлости, против «литературных промышленников», которые начали уже в пушкинские времена заполонять рынок своей продукцией:
И мало горя мне, свободно ли печатьМорочит олухов, иль чуткая цензураВ журнальных замыслах стесняет балагура.Все это, видите ль, слова, слова, слова.Пушкин призывал писателей стоически переносить тяготы, в том числе и цензурные, сопряженные с их профессией и призванием. В «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений» (1830) он предупреждал их:
«<…> дружина ученых и писателей, какого б рода она ни была, всегда впереди во всех набегах просвещения и на всех приступах образованности. Не до́лжно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». Советуя Вяземскому заняться биографией Карамзина, он заметил: «…скажи всё: для этого до́лжно употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 286). Речь здесь идет о письме от 24 сентября 1774 г. мадам Эпинэ аббата Фердинанда Галлиани (1728–1787), остроумца и философа-скептика, в котором он заметил: «Боже Вас сохрани от свободы печати, проведенной при помощи указа. Ничто более этого не посодействует огрубению нации, уничтожению вкуса, порче красноречия и всяких способностей. Знаете ли Вы мое определение того, что такое ораторское искусство? Это – искусство сказать всё, – и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего» (другой перевод: «где запрещено говорить всё». Подробнее см.: Письма. М., 1989. Т. 2. С. 14, 170).
Пушкин с сочувствием приводит слова Карамзина, заметившего однажды: «Те, которые у нас более прочих вопиют против самодержавия, носят его в крови и лимфе». Единственный выход – «медленные, но верные, безопасные успехи разума, просвещения, воспитания, добрых нравов». Под конец жизни Пушкину становится близок карамзинский парадокс: «Если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он (т. е. Карамзин. – А. Б.) с женой и детьми уехал бы в Константинополь». Крайне характерно, что завет Карамзина нашел отклик у Александра Кушнера, современного поэта (Кушнер А. Кустарник. СПб.: Пушкинский фонд, 2002):
Считай, что я живу в Константинополе,Куда бежать с семьею КарамзинХотел, когда б цензуру вдруг ухлопалиВ стране родных мерзавцев и осин.Мы так ее пинали, ненавидели,Была позором нашим и стыдом,Но вот смели – и что же мы увидели?Хлев, балаган, сортир, публичный дом…72
Несостоятельность закона столь же вредит правительству (власти), как и несостоятельность денежного обязательства. (Прим. А. С. Пушкина.)
73
Подсчет произведен по чрезвычайно ценному справочнику Л. М. Добровольского «Запрещенная книга в России. 1825–1904. Архивно-библиографические разыскания» (М., 1962).
74
Подробнее об этом см.: Цензура в России. С. 8—41.
75
Идея создания вольной русской типографии за рубежом возникла у Герцена еще в 1849 г., когда он находился в Париже. В обращении к друзьям «Прощайте!» («С того берега»), написанном 1 марта 1849 года, он говорил: «Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность – я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь <…> я здесь полезнее, я здесь бесценсурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. VI. М., 1955. С. 13, 17).
76
Герцену и его сподвижникам не удалось полностью выполнить намеченную программу. С 1855 по 1862 г. вышло 7 книжек альманаха. После нескольких лет перерыва в Женеве вышел в 1867 г. еще один выпуск.
77
Первая листовка под названием «Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству» вышла на самом деле в конце июня.
78
Зову живых (лат.). Эти слова стали постоянным эпиграфом к «Колоколу». В первую годовщину издания «Колокола» А. И. Герцен писал: «Живые – это те рассеянные по всей России люди мысли, люди добра всех сословий, мужчины, женщины, студенты и офицеры, которые краснеют и плачут, думая о крепостном состоянии, о бесправии в суде, о своеволии полиции, которые пламенно хотят гласности, которые с сочувствием читают нас» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. XIII. М., 1958. С. 298).
79
Этим человеком был знаменитый русский артист, которому Герцен посвятил специальный очерк «Михаил Семенович Щепкин» (Герцен А. И. Собр. соч. Т. XVII. М., 1959. С. 269–273). Герцен вспоминает, что осенью 1853 г. он получил письмо из Парижа, что «…такого-то числа Щепкин едет в Лондон через Булонь. Я испугался от радости… В образе светлого старика выходила молодая жизнь из-за гробов; весь московский период… и в какое время… десять раз говорил я о страшных годах между 1850–1855, об этом пятилетнем безотрадном искусе в многолюдной пустыне. Я был совершенно одинок в толпе чужих и полузнакомых лиц… Русские в это время всего меньше ездили за границу и всего больше боялись меня. Горячечный террор, продолжавшийся до конца Венгерской войны, перешел в равномерный гнет, перед которым понизилось все в безвыходном и беспомощном отчаянии. И первый русский, ехавший в Лондон, не боявшийся по-старому протянуть мне руку, был Михаил Семенович. <…> Когда улеглось нервное раздражение, я мало-помалу заметил что-то печальное, будто какая-то затаенная мысль мучила честное выражение его лица. И действительно, на другой день мало-помалу разговор склонился на типографию, и Щепкин стал мне говорить о тяжелом чувстве, с которым в Москве была принята моя эмиграция», особенно появление книги «Развитие революционных идей в России». «Какая может быть польза от вашего печатания? – спрашивал Щепкин. – Одним или двумя листами, которые проскользнут, вы ничего не сделаете, а III отделение будет всё читать и помечать, вы сгубите бездну народа. Сгубите ваших друзей…» Герцен так ответил на такую просьбу: «Я знаю, что вы меня любите и желаете мне добра. Мне больно вас огорчить, но обманывать я вас не могу: пусть говорят наши друзья, что хотят, но типографию не закрою; придет время – они иначе взглянут на рычаг, утвержденный мною в английской земле. Я буду печатать, беспрестанно печатать… Если наши друзья не оценят моего дела, мне будет очень больно, но это меня не остановит, оценят другие, молодое поколение, будущее поколение». В конце очерка Герцен приводит забавный эпизод: впоследствии, когда начал выходить «Колокол», Щепкин пригрозил директору Императорских театров тем, что напишет туда по поводу задержки выплаты жалованья артистам.
80
Первый лист – «Юрьев день! Юрьев день!». Второй – «Поляки прощают нас!»
81
Paternoster row, Berner street – названия лондонских улиц.
82
Полсоверена.
83
Английская газета «Таймс».
84
«Смерть императора России» (англ.).
85
беженцы (фр.).
86
«Имперникель умер».
87
Это отрывок из статьи Н. П. Огарева «Под новый год», перефразированный Герценом.
88
сторожевым постом (итал.).
89
Намек на маленький рост министра просвещения А. В. Головнина.
90
плуты (фр.).
91
Н. Трюбнер вообще принес большую пользу русской пропаганде, и имя его не должно быть забыто в «Сборнике русской типографии». Сверх вторых изданий «Полярной звезды» и всех наших книг, Н. Трюбнер предпринял сам целый ряд новых изданий на русском языке: Стихотворения Н. Огарева, Записки Екатерины II, Записки кн. Дашковой, Записки Лопухина, кн. Щербатов и Радищев и пр. (Прим. А. И. Герцена.)
92
Николас Трюбнер – английский книгоиздатель и книготорговец, сочувствовавший Герцену.
93
страшно вымолвить (лат.).
94
Василий Петрович Боткин.
95
Мижуев – персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».
96
Упомянуты министры и другие государственные деятели того времени: А. М. Горчаков, М. Н. Муравьев, В. Н. Панин.
97
Программа «Полярной звезды». (Прим. А. И. Герцена.)
98
Фудрас, вернее, Фудра Т. Л. О. (1810–1872) – французский писатель, автор романов из великосветской жизни.
99
Поборница женских прав, французская романистка Аврора Дюдеван выступала в литературе под мужским именем – Жорж Санд.