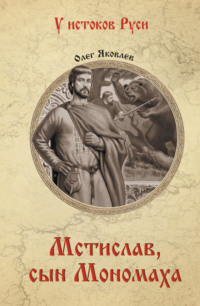
Мстислав, сын Мономаха
– Тогда, на ловах-то, Олекса с посадником Павлом тебя из-под зверя вытащили да кишки твои сложили и от грязи очистили, – заметила Гида. – Их благодари. Медведя же боярин Гюрята заколол. Говорит, непростой тот медведь был. Двух смердов княжеских из окрестных сёл задрал. Людоед, иным словом.
– Я, матушка, свечку в соборе Софии поставлю. И молитву прочту. И церковь в честь святого Пантелеймона возвести велю.
– Церковь поставить – дело доброе, сын, – согласилась, одобрительно кивнув головой в чёрном повойнике, княгиня-мать. – Только я об ином думала. Вон Христина твоя на сносях опять. Если мальчика родит, нареки его в честь святого целителя. Чтоб охранял его от бед и напастей…
Когда в скором времени родился у Мстислава и Христины второй сын, Изяслав, дали ему крестильное имя Пантелеймон, как и хотела княгиня-мать.
Гида любила подолгу держать на руках крохотного младенца и с радостной улыбкой вглядываться в его личико.
– Князь вырастет. Воин, правитель, – частенько говаривала она, качая малыша.
Глава 16
В месяце апреле, когда растаяли под лучами тёплого вешнего солнца снега, освободились ото льда бурные славянские реки, на деревьях появились листочки, колышущиеся под порывами холодного ещё порой ветра, на лугах зеленели первые стебельки молодой травы, а по дорогам бежали звонкие журчащие ручьи, спешил в Великий Новгород из Переяславля молодой воин. Ехал быстро, рысью, часто менял коней на постоялых дворах: заметно было, что везёт некую важную весть. Воин, видно, был не из бедных – облачён он был в голубого цвета плащ из дорогого сукна с серебряной застёжкой-фибулой у плеча. Под плащом поблёскивал панцирь из гладких булатных пластин, голову покрывала розовая шапка с широкой меховой опушкой, ноги же обуты были в жёлтые сафьяновые сапоги. На надетом через плечо ремне висела сума из тиснёной кожи, в каких обычно гонцы возили важные грамоты.
Воину, наверное, не было и двадцати лет – выглядел он очень молодо, и только-только начинала расти у него на лице жесткая русая бородёнка.
На вопросы встречных ратник отвечал коротко, говорил лишь, что едет в Новгород ко князю Мстиславу, а более сказать ничего не смеет, князь Владимир не велел.
Меж тем следом за странным этим воином уже скакали по земле гонцы с вестью о великой победе, одержанной русскими войсками над половцами на берегах реки Молочной. Где течёт такая речка, люди толком не знали, разве какой купец вспоминал: да, вроде есть такая речушка, впадает в Сурожское море[101]; но только и ходили в те дни разговоры, что об этой реке, о битве, которая приключилась близ неё, да о ратной славе русских витязей.
Мо́лодец тем временем добрался до новгородских застав за Смоленском, на попутной купецкой ладье миновал разлившуюся Ловать, Ильмень и спустя несколько дней очутился в Городище, у князя Мстислава…
– Из Переяславля, говоришь? – спросил, пристально рассматривая молодца, Мстислав. – Грамоту отца привёз? Что ж, лепо, лепо. А на словах князь Владимир ничего тебе передать не повелел? В грамоте-то токмо о битве с погаными. Ты сам-то в бою был?
– Был, княже. – Гонец улыбнулся. – Помог Господь, посекли супостатов.
– Знаю, – коротко отрезал Мстислав. – Знаю, что посекли. Ты мне скажи лучше, откудова сам будешь? Как звать тебя?
– Зовут меня Велемиром, а родом я с Нова города. Отец мой – боярин Гюрята Рогович.
– Вот как! – удивился князь. – То-то, гляжу я, вроде похож ты на боярина Гюряту. Давно служишь в дружине переяславской?
– Да третий год, княже.
– Сколько ж тебе лет?
– Осьмнадцать. – Юноша в смущении опустил голову.
– Ну вот что, добрый молодец, – с усмешкой промолвил Мстислав. – Гляжу, притомился ты вельми с дороги. Отдохни в гриднице[102], а после прошу за стол. Угощу брашном, вином добрым, олом. Тамо за столом с гусляром Олексой, другом моим, и побаим о сече.
Велемир не стал противиться и направил стопы в гридницу. Снял и положил на ларь у изголовья плащ, стянул с плеч кольчугу, отстегнул широкий пояс с серебряной бляхой, рядом с одеждой поместил меч в украшенных чеканкой ножнах, разулся и, чувствуя подступающую к телу усталость, растянулся на жёстком ложе.
Но спать молодцу так и не пришлось: взволнованный необычайной вестью, в гридницу ворвался Олекса.
Давно уже юный гусляр мечтал прославиться, принести хоть какую-нибудь пользу людям, заняться большим, достойным мужа делом. Совсем наскучила ему жизнь в княжьем тереме, казавшаяся пустой, никчемной, он уже терял веру в себя, в свои силы, в возможность что-либо изменить в этой унылой однообразной жизни, и вот вдруг судьба уготовила ему встречу с таким необычным человеком, ещё столь молодым, но уже сумевшим найти своё дело, стать знатным, добрым воином.
Задыхаясь от волнения, Олекса растолкал гонца и решительно потребовал:
– Расскажи, друже, что на Молочной реце было.
Велемир, несмотря на усталость, с готовностью принялся рассказывать:
– Ну, пошли рати по Днепру, пешцы – на ладьях, ну а мы, комонные, – вдоль брега. До порогов за малым не дошли, остановились, ладьи ко брегу пристали. Ну, стояли тамо день, выгружали с ладей полти мяса да снедь разноличную, складывали в обозы. Потом пошли посуху в степь. Я сам в переяславской молодшей дружине шёл, под началом воеводы Дмитра Иворовича. Четыре дня по степи ехали, а после вызвал князь Владимир сына своего Ярополка в шатёр и повелел ему со смолянами да с ростовцами идти на сторожу половецкую. В стороже у поганых был хан Алтунопа, он у них славился особливо уменьем ратным да хитростью. Но воевода Дмитр и князь Ярополк обхитрили лукавого хана: обступили его рать со всех сторон так, что он сперва и не приметил. Ни один поганин из сторожи живым не ушёл – всех посекли наши. К полудню воротился Ярополк к отцу, и радость велика была во всём войске. Князья собрались на совет, измыслили идти дальше на ворога. На реце на Молочной стали лагерем. А поутру, как светать начало, – я в дозоре тогда стоял, – гляжу, поганые идут. Ну, поднялась наша рать, стали пешцы стеною. Князья хитро измыслили: пешцев в чело поставили, а на крыльях – конные дружины. Поганые-то всем скопом на пешцев ударили, да не тут-то было. Будто о каменную стену, лбы себе порасшибали. Ну а мы всё стоим и стоим. Надоело уж: тут сеча идёт, сабли, мечи сверкают, аж кровь кипит в жилах, а ты стоишь без дела. Но вот, гляжу, подозвал к себе князь Владимир воеводу Дмитра, сказал ему что-то тихо, воевода тотчас мечом взмахнул, – ну тут-то уж мы понеслись! Зла и люта была сеча. Невесть сколько народу сгинуло, и наших, и половчан. Двадцать ханов в сече пало, а одного, Бельдюза, в полон притащили. Ну, князь Владимир велел зарубить его.
– А ты сам-то скольких поганых убил?! – восхищённо взирая на могучие плечи русоволосого молодца, спросил Олекса.
– Да уж и не припомню. Одного в полон взял – могуч был, супостат, коня подо мной убил. Я уж его пешим взял: саблю из десницы выбил, свой меч к горлу приставил, он и сдался. Оказалось, торчин, друг Боняков. Сказывают, в прошлое лето споймал его киевский воевода в Торческе, да свои, торки, выкупили у князя Святополка за пять гривен сребра. Он опять к половчинам-то и прибился. Метагаем звать сего торчина. Ну, велел я ему идти за собой следом, а он из голенища нож кривой выхватил и сзади на меня наскочил. Да ударить не поспел – воевода Дмитр его палицей по голове съездил, так и растянулся торчин. Мыслили, уж тут ему и конец, ан нет, живуч, сын собачий. Оклемался, ныне в порубе у воеводы сидит.
– Вельми занятно повестуешь ты! – воскликнул Олекса. – Ну а дальше-то что?
– А что дальше? – пожал плечами Велемир. – Дальше воротились мы ко Днепру, оттудова к Переяславлю пошли. В Переяславле пир был, певец Ходына песнь славную сложил.
– Ходына?! – Олекса вскочил со скамьи. – Друг мой Ходына! Он что, тоже бился?
– Да нет. Какой из него ратник? Он иным славен – песнями. Поёт – заслушаешься!
– Ох, верно се! – молвил со вздохом гусляр. – Лучше его не сыскать ныне на Руси певца. И он, и ты, и князья наши, и воеводы, и пешцы – все похвалы достойны. Один я, – Олекса снова тяжело вздохнул и горестно махнул рукой, – сижу здесь, ем, пью с княжого стола, а ни разу и поганого-то в лицо не видал. Буду просить князя Мстислава, отпустил бы меня в дружину ко князю Владимиру. Что здесь киснуть? А ещё скажу: полюбился ты мне, хлопец. Как послушал тебя, легко на сердце стало. Ведаю теперь, что мне надобно. Сесть бы на коня да мчать на ворога.
– Так, может, и вместе поедем, – улыбнулся Велемир. – Я ведь в Новгород ненадолго. Отца, мать, брата малого навещу, да и в обратный путь. Скакал сюда, неведомо сколько коней сменил на пути, торопил меня с грамотой князь Владимир. Уж никому о грамоте не говорил, думал: тайное в ней что. Ну а оказалось – то же, что у всех на устах: про битву, про победу нашу.
Олекса кивал головой и тихо повторял раз за разом:
– Буду, буду просить князя Мстислава.
…Мстислав, когда выслушал Олексовы мольбы, разгневался, заходил по горнице из угла в угол, заговорил, размахивая в возбуждении руками:
– Длани у тебя чешутся, что ль?! Али иных дел у нас в Новом городе мало?! Зимой, глядишь, на чудь в поход соберусь, на емь[103] тоже ходить придётся. Может, и ко свеям, душе любезным родичам, загляну. Попирую у них в Сигтуне. Вот сколь дел ратных! А ты всё – поганые да поганые! Без тебя с ними управятся. Уже управились – слыхал ведь, что Велемир баит?
– Слыхал, княже, – опустив голову, вымолвил Олекса.
Вопреки доводам князя, он продолжал упрямо стоять на своём:
– Токмо, сказывал мне Велемир, многие ещё ханы живы, многие с Шаруканом на Дон утекли, а на Днепре Боняк со своими ордами хоронится, ждёт часа удобного, дабы набег учинить.
– А аще голову свою сложишь?! Да тебе б… – Мстислав вздохнул. – Песни б слагать. А по полям бранным рыскать – то пускай Велемир.
– А я что ж, сидеть и ждать буду, покуда он всех поганых иссечёт?! – в сердцах выпалил Олекса. – Я тоже хощу подвигом ратным имя своё ославить! И землю родную оборонить хощу! Не могу боле глядеть со стороны, как иные кровь льют, да есть сытно, да пить! Не могу, князь!
Словно из самых глубин души вырвались последние Олексовы слова. Мстислав нахмурил чело, замер, потом пристально оглядел гусляра с ног до головы и, сокрушённо махнув на него рукой, сказал:
– Что ж, езжай, коли не можешь. Зла держать на тебя не стану. Иди, ступай с очей моих.
– Тяжко прощаться с тобою, княже, но прости меня, Бога ради, не могу по-иному. – По щеке Олексы покатилась крупная слеза.
Мстислав обнял гусляра за плечи.
– И мне тяжко, – сказал он, кивая головой. – Но ведаю: не удержишь тебя. Ты, аки птица вольная, Олекса. Храни тебя Господь.
Князь троекратно перекрестил Олексу и, тяжко вздохнув, вышел из горницы.
…Всё же Мстислав под разными предлогами продержал Олексу с Велемиром в Новгороде до осени, и только когда уже наступили Симеоны-летопроводцы, наконец, распростился с гусляром, этим единственным так хорошо понимавшим его человеком.
Неужели, думалось князю, никогда более не придётся ему слушать звон Олексовых гуслей, тонкий голос певца, никогда не сможет он поделиться с другом, поведать ему о самом сокровенном, обо всём, что только есть на душе.
Он долго стоял в молчании на крыльце, смотря вслед двоим всадникам, которые медленно ехали вдоль волховского берега.
Что ждёт его, Мстислава, впереди? Холод одиночества, отчуждённость от людей, замкнутость? А может, так и должно было случиться? Может, все великие воистину обречены на одиночество; те, кто стоят над людьми, должны быть одиноки?
Мстиславу не хотелось, очень не хотелось такого, но он понимал, что это правда, и лишь молил Бога, дабы уберёг он молодца Олексу от вражьей сабли и аркана, от гибели и беды, наполнил жизнь его подвигами, победами, славой. И ещё, чтоб пусть хоть на день, хоть на миг, хоть единожды пересеклись в грядущем их дороги, чтоб встретились они, князь и гусляр, через много-много лет, чтоб вспомнили дни своей юности и чтоб спел ему Олекса звонким своим голосом печальную песнь.
Глава 17
Дорогой Велемир и Олекса говорили о многом: о князе Владимире, о половцах, о жизни в пограничных степных русских городках и на заставах. Олексе в основном приходилось слушать да иногда задавать вопросы. Велемир оказался рассказчиком добрым – в свои осьмнадцать лет довелось ему побывать во всяких переделках – и полон отбивал у половцев Боняка, и в Ростов с Владимиром ездил, и даже почти всех ханов половецких видел во время встречи в Сакове, где князья и ханы держали совет. Тогда он нёс охрану в шатре у Святополка.
– Боняк – он Шелудивым прозван, – рассказывал Велемир. – Прозвище се дано ему, ибо рожа его вся в язвах гнойных да струпьях. Страсть божья – не рожа! Негоже, конечно, всякой нечисти страшиться, а всё ж скажу тебе – дрожь по телу прошла, как его увидал. Хотя и чист он, и одет в аксамит, сверкает аж златом. Шарукан – тот на лицо красив. Токмо вонь от его! Верно, годами не мыт. И люди бают, гораздо лютее Боняка он будет. Эх, утёк он от нас на Сутени, срубить бы ему голову! Пущай бы волки да враны во степи им кормились!
За разговорами путники и не заметили, как выехали из густого елового леса, что тянулся вдоль левого берега Волхова, и очутились возле небольшого рыбацкого селения, расположенного на склоне крутого холма. Вдали, за селом, на пологой вершине высились каменные строения монастыря.
– Что се за место? – пожал плечами Олекса. – Вот вроде всё окрест Новгорода объездил, всюду побывал, а здесь не был.
Велемир, видно, тоже никогда не бывал в этих местах; он удивлённо вертел головой, словно ища кого-то.
Из ближней утлой избёнки вышел худой сгорбленный старик, в котором Олекса тотчас узнал Добросвета.
– Дедушка, ты! – обрадованно вскричал юноша.
– А, гусляр! Ну вот, привёл тебя Господь на Перынь, – промолвил с улыбкой старец. – Куда ж путь держите, уноши добрые?
– Далеко, дед. В Переяславль, с погаными биться.
– Доброе, доброе дело, – отозвался Добросвет. – Бог в помощь вам. Я вот тоже по молодости ходил на варягов да на чудь. Под началом посадника Остромира ещё воевал. А ещё ранее на Ромею, на Царьград со князем Владимиром Ярославичем хаживал. На ладьях крепко бились мы тогда со греками – ох, крепко! Ну, не гнушайтесь, уноши, дома моего утлого, входите, попотчую, чем богат. Чай, проголодались в пути. Старуха-то моя суп гороховый сварила нынче. А после расскажу тебе, гусляр, как в прошлый раз обещал, про Перынь нашу, про место се.
Олекса и Велемир, наклонив головы, прошли через узкий низенький дверной проём в тесную избёнку, перекрестились на образа в горнице и сели за грубо сколоченный деревянный стол.
Хозяйка – пожилая женщина в чёрном платке, с лицом, густо усеянным морщинами, – поставила перед гостями глиняные миски с супом.
Велемир подозрительно оглядел стены, обвешанные пучками сухих трав, какими-то кореньями, листьями, и шепнул Олексе:
– Сей старец, что, колдун, волхв?
– Да вроде, баит, нет, – пожал плечами Олекса.
Вряд ли, размышлял он, Добросвет был волхвом. Как-никак в доме его висели иконы, горела тоненькая свечка, а в разговорах старик не раз поминал Господа. И всё же чем-то старинным, языческим веяло и от ветхой этой избёнки, и от урочища, и от самого старца.
Гороховица то ли в самом деле была очень вкусной, то ли просто Олекса и Велемир сильно проголодались с дороги. Поев, они поклонились хозяйке в пояс, поблагодарили за еду и, вняв совету старика, вышли снова во двор.
– Вот, хлопцы, глядите! – Добросвет указал на вершину холма, где виднелись монастырские постройки. – Место се, рекомое Перынью, вельми многим знаменито. Некогда, в давние времена, было здесь капище. Стоял вон там, на горе, деревянный Перун. Из огромного пня высекли его словене. Стоял Перун средь земляного круга. А по краям круга того ров шёл. Ров сей хитро выкопан был. Имел он восемь выступов-лепестков, и в лепестках тех горел огонь негасимый. Охраняли волхвы-кудесники сей огонь, раздували угли каждый день и каждую нощь. А коли по нерадивости хранителя гас огонь, того хранителя убивали, отдавали его тело в жертву Перуну. Иначе несчастья великие постигали людей, гневался Перун, молнии свои метал на землю, посевы жёг, дома, житницы, гумна.
– Глупость молвишь ты! Перун твой древо есть, ничто более! – гневно перебил Добросвета Велемир. – Ты сам-то, чай, не волхв ли будешь?
– Млад ещё, а кусаешься, – беззлобно рассмеялся старик. – Никакой я не волхв. А сказываю то, что было, что от отца, от деда слыхал. Поклонялись предки наши Перуну, легенды, преданья о нём слагали разные. Хошь, расскажу?
– Расскажи, расскажи, дедушка! – пылко воскликнул Олекса. – Вельми по нраву мне слова твои!
– И чего ересь слушать? – пожал плечами Велемир. – Поганство одно молвишь ты, старик. С тёмными силами, с дьяволом самим, верно, знаешься. О богомерзких вещах сказываешь.
– Не то, не то речёшь, Велемир! – с жаром возразил ему Олекса. – Не поганство се. Се – корень наш, корень народный! – Он снова повернулся к старику и попросил: – Сказывай, молю, Добросвет, сказывай, не слушай его. Глуп по младости своей.
Старик улыбнулся и не спеша принялся рассказывать старое славянское предание.
– Бог грозы Перун обитал высоко на вершине горы, была у него жена Мокошь – жёнка с большой головой и длинными руками. По ночам, когда все ложились спать, садилась Мокошь в избе за пряжу.
Другой бог – Велес – обретался на земле, пас скот и имел много злата. Единожды возомнил он себя равным Перуну и, чтоб доказать всем свою силу, порешил украсть у него жену. Тёмной нощью подкрался Велес к жилищу Перунову, схватил Мокошь и побежал. Да не тут-то было. Разгневался громовержец, погнался по небу за злым вором, стал метать на землю огненные свои стрелы-молнии. Укрылся Велес под древом, а Перун молнией древо расщепил. Спрятался Велес под камень – но расколол Перун камень. Обратился Велес в человека – но признал его грозный бог грома. Уж в кого ни обращался похититель: и в коня, и в корову, – всюду летели в него стрелы огненные. Видит Велес – никуда не деться ему от Перуна. Воротил он тогда ему Мокошь и бежал в страхе великом. В тот же миг полился на землю дождь, и принёс он земле плодородие, а людям урожай славный.
Со вниманием выслушав старца, Олекса спросил:
– Ты и Ходыне сию легенду сказывал?
– Сказывал, гусляр. Он и песнь сочинил после. А ещё про Яровита, бога весны и плодородия, сказывал. Является бог сей по весне в обличье одетой в белое девушки, верхом на коне. На голове у девушки сей – венок, в деснице – колосья ржаные, а в шуйце – голова человечья.
– Скажи, дед, ты во Христа веруешь? – спросил Велемир. – Сдаётся мне, ты хоть и крещён, да тайком Перуну тут молишься.
– Не молюсь я Перуну, хлопче, ибо крещёный есмь, и во Христа единого верую, – ответил ему Добросвет. – А вот преданья старые собираю я, равно как и травы целебные, и коренья. В них, верно вот гусляр сказывал, корень народный. Ты вот, – обратился он к Велемиру, – может, уж и на рати великой побывал, а того не разумеешь, что в преданьях сих – Русь наша, кою оборонял ты в поле. Деды наши преданья сии нам подарили.
Велемир махнул рукой и не стал спорить со старцем, спросил только, указывая на монастырь:
– А там что?
– То, хлопче, монастырь. На месте, где Перун стоял, ныне сияет, вельми красна, церковь Рождества Богородицы. Весь наш народ в сей церкви молится. Один боярин новгородский именитый даже повелел схоронить себя тут. А ты сказываешь – Перун. Места окрест давно уж не Перуньи. Ведай се.
В избе у старика, на печи юноши и заночевали, а с первыми же лучами солнца поднялись, оседлали коней и двинулись дальше в путь.
Добросвет стоял на косогоре, опираясь на посох, и долго махал рукой им вслед. По морщинистым жёлтым щекам его текли слёзы, словно провожал старик не случайно встреченных путников, а родных своих сынов на жестокую битву со свирепыми половцами.
Глава 18
Был тихий вешний вечер, улеглась суета на Городище, доносился издали плеск волховской волны. Ветер качал стволы зеленеющих тонких осинок, кои росли в ограде княжого двора. По небу на заходней стороне плыли лохматые серые тучи. Темнело, наступали сумерки.
Княгиня Гида, шурша чёрным платьем, шитым из дорогого сукна, вышла на широкую площадку гульбища с массивными столпами. Заметив Мстислава, она опустилась напротив него на скамью.
– Давно хотела тебя просить, сын, – начала она решительный разговор. – Отпустил бы ты меня в Иерусалим. Поклонюсь Гробу Господню, свечку за всех нас поставлю. Сам знаешь: святой город сей ныне освобождён от мусульман-сельджуков рыцарями-крестоносцами. Граф Готфрид Бульонский основал Иерусалимское королевство на Святой земле. И ещё, стало нам с тобой известно о победе отца твоего над погаными половцами. Расчищен теперь путь речной по Днепру, безопасен он стал. Всюду твой отец сторожи расставил, от Переяславля до самого Олешья[104]. Вот и поплыву я на ладье.
– Ох, матушка! – Мстислав сокрушённо покачал головой. – Путь во Святую землю тяжек и опасен. Не ездила бы ты. Ну давай пошлём кого-нибудь. Иерея какого, монаха али епископа. Тебе-то зачем самой?
– Обет дала я, сын. И верую, сохранит меня Господь. Равно как тебя исцелил от ран тяжких. Помолюсь за вас всех, чада мои, за здравие ваше. И за упокой родителей моих, за отца, короля Гарольда, от стрелы нормандской смерть принявшего, за мать, Эдгиту, от тоски и горя увядшую, за тётку Гунгильду, святую женщину, в монастыре в Кёльне почившую.
Мстислав смотрел на плохо видное в сумеречном свете лицо матери, обрамлённое монашеским куколем, хотел было заспорить с ней, но понял всю бесполезность и ненужность слов и лишь с горьким вздохом махнул рукой.
– Ведаю: не отговоришь тебя, мать. Что ж, езжай, коли так. Охрану тебе дам, самых дружинников лучших. Чтоб берегли тебя в пути.
– Что монахиню бедную охранять! Чай, не княгиня уже. – Гида грустно усмехнулась.
– Ты – мать князя! – теперь уже решительно настаивая на своём, оборвал её Мстислав, сдвинув брови. – Не спорь со мною.
Гида промолчала, снова усмехнувшись и покачав головой.
До поздней ночи сидели они вдвоём на гульбище, говорили мало, больше молчали, вспоминая прошлое.
«Свидимся ли когда? – думал Мстислав, подымая очи и взирая в необъятную звёздную высь. – Воистину, неисповедимы пути Господни».
Всё-таки ему верилось, что мать ещё вернётся к нему в Новгород, ещё построжит, и не раз, своих сыновей, ещё и отца поругает, и наставит его, первенца своего, строгим голосом.
…Ладья с княгиней Гидой, облачённой во всё то же строгое чёрное платье, отчалила от городищенских вымолов рано утром. Отблески зари розовели на спокойной чистой глади Волхова. У Мстислава щемило сердце, когда смотрел он на тоненькую фигурку матери с куколем на голове, медленно поднимающуюся по крутым сходням. Вот княгиня Гида обернулась, махнула на прощание ему, словно птица крылом, широким рукавом чёрного одеяния, и скрылась в ладейной избе. Не в силах смотреть вслед быстро убегающему вдаль судёнышку, Мстислав отвернулся и закусил губу, чтобы не расплакаться.
…Олекса покинул его, теперь мать уехала в неведомую даль!
«Ну что же! Новые люди придут, новые встречи будут, новые заботы! Так устроен мир!» – старался утешить себя двадцатисемилетний князь, мягко ступая ногами в жёлтых тимовых сапогах по дощатому настилу пристани. Поднявшийся ветер колыхал за спиной пурпурное корзно. Следом спешили гридни и отроки.
Глава 19
В Переяславле в тёмном сыром порубе скрипел зубами от лютой злобы торок Метагай. Ноги его окованы были железными цепями, приделанными ко вбитым в стену кольцам, – шаг-два от стены, и более не ступишь. Сидел Метагай, обхватив руками голову, и выл, глухо, дико, как затравленный раненый волк.
До чего несправедливы к нему добрые духи! Почему не защитили его, не уберегли от неволи?! В чём провинился он, чем прогневил их?!
Всего за какой-нибудь год оказался Метагай в порубе уже во второй раз. Сперва пленили его свои, торки, служившие киевскому князю. Хан Азгулуй, наверное, тогда бы и срубил ему голову, но помешал боярин Туряк, велел отвезти в Киев под стражей. А позже уже и сам Азгулуй, вняв советам многочисленной Метагаевой родни, выкупил его у златолюбивого князя Святополка, и снова почувствовал он свободу, пришла, вернулась к нему былая дерзость, смелость, не стал он служить Азгулую, а ушёл на Донец к половецкому хану Бельдюзу. И вот теперь… Трудно даже понять, как это случилось… Какой-то мальчишка-урус!.. Ох, до сих пор скрежещут зубы и сжимаются в кулаки руки! Как он (он, Метагай!), в поединке со всяким кипчаком, торком или урусом доселе неизменно бравший верх, был побеждён?! Словно коршун, налетел на него с тяжёлым мечом урус, выбил саблю чудовищно сильным ударом и взял в полон. Уж лучше пусть убил бы, чем так!