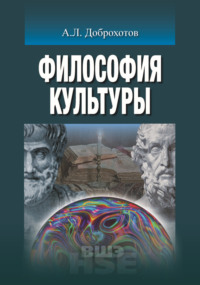
Философия культуры
Слава Сведенборга, если не считать возбужденных его чудесами современников, никогда не была слишком широкой. Скорее ее можно представить в виде непрерывной эстафеты родственных душ, которые проносят традицию через века. Но удивляет прочность этой «трансмиссии». Блейк, Новалис, Соловьев, Даниил Андреев. Особая тема – влияние Сведенборга на мировую литературу[58]. Стоит отметить, что интересны не только конкретные казусы и имена, но и укоренение в европейской культуре своеобразного духовно-психологического чекана, который метит творческие личности разных конфессий и направлений. Его отличительная черта – внимание к границе между мирами, видимой уже в нашем повседневном быту (По, Гофман), чуткость к таинственным соответствиям разных типов явлений (Бодлер), к шифрам подсознательного и сверхсознательного, которые могут быть объективированы и в такой ни к чему не обязывающей форме, как сон (Кафка), и в столь рациональной форме, как текст (Борхес) или даже историческая дата (Хлебников). Важная черта этого склада личности (независимо от личной склонности или способности к визионерству) – стремление представить себе окно в иной мир в максимально персонифицированном виде, попросту говоря, как встречу души с душой.
Интересно, что ощущение непрерывности некой иерархии уровней душевной просветленности соседствует, а может быть, и принципиально связано с чувством катастрофичности и прерывности бытия. Андрей Белый вспоминает о том, как он был увлечен описанием «новых типов», появившихся в тогдашней культуре, – апокалиптиков, о которых он хотел рассказать в своих «Симфониях», и о том, как важно ему было для понимания этих типов изучать среди других толкователей Апокалипсиса именно Сведенборга[59]. Несомненно, следы его влияния мы сможем найти не только у апокалиптиков Серебряного века, но и у символистов, и у софиологов. Нередко пишущие о Сведенборге оставляют в тени тему, которая менее колоритна, чем описание его видений, но чрезвычайно важна для понимания его места в новоевропейской культуре и к тому же может примирить со Сведенборгом как скептиков, так и ортодоксальных религиозных критиков. Символизм как метод и как способ восприятия феномена объясняет многое в его причудливых концепциях. Это не античный символизм, где эйдос проявляет себя в материи, и не средневековый, где даны ряды воплощений смысла в земной и небесной иерархии. Перед нами – новая модель: мир как сверхтекст, в котором буквами, «стихиями» являются все крупицы и клеточки космоса, могущие быть знаком. Причем текст этот, при его смысловом единстве, не имеет жесткой оболочки, «переплета». Он бесконечен в физическом и метафизическом смысле. Отсюда – страсть к толкованию Библии, которая понимается как модель символического мира. Сходным образом мыслил наш Г.С. Сковорода, младший современник Сведенборга, называвший Библию третьим, «символическим», миром между микро- и макрокосмосом. Пожалуй, этим же можно объяснить важность для Сведенборга неожиданной, казалось бы (хотя хорошо известной для мистики и алхимии), темы «супружеской любви». Ведь совпадение частей в целое, причем одновременно во всех планах – физическом, душевном, духовном – важнейшее свойство именно символической реальности.
Очерченный образ позволяет предположить, что интерес Канта к Сведенборгу вряд ли обусловлен только его озадачивающими мистическими способностями. Шведский гений был для многих современников воплощением идеалов зрелого Просвещения, предполагавших примирение «правды рассудка» и «правды сердца»: ученый-энциклопедист, он в то же время построил религию «в пределах разума» и своим визионерским опытом соединил видимый и невидимый миры в единый, вполне натуралистический континуум. Но именно этот, сбывшийся как будто, идеал не только привлекал Канта, но и тревожил. Гармония предполагает согласование различного. Казус же Сведенборга предполагает слияние без различения. В таком случае участие разума в этом синтезе становится фикцией: рациональное вполне можно заменить воображением или переживанием. Есть ли у рациональности своя суверенная территория? Именно этот вопрос волнует Канта в «Грезах духовидца». Поэтому Кант так детально разбирает способы, какими духи даны в процессе общения с визионером. Собственно, между мистическим видением и просто видением нет принципиальной разницы. И здесь и там есть явление, данное через субъективную чувственность, и есть интерпретация, которая создает смысл и образ. У Канта нет оснований сомневаться в том, что Сведенборг имел личный опыт видений, но результат опыта описан как интерпретация духовидца. И этот результат весьма согласуется с духом и стилем времени, он есть факт его символической культуры, от которого нельзя отделаться благоразумным сомнением, так же как нельзя освободить духовидца от ответственности за интерпретацию.
Кант задолго до «Критики чистого разума» уже имел в виду в своей работе о «грезах духовидца» путаницу с феноменами и ноуменами, т. е. с данными нам явлениями и созданными на их основе умозрительными предметами. Верно, что Кант – оппонент и критик Сведенборга, но верно и то, что именно кантовское различение явленного и мыслимого определенно доказывает возможность той картины мира, которую изображал шведский визионер[60]. Можно сказать об этом и по-другому: требование необходимой интерпретации любого явления нельзя отменить, и, что бы нам ни явилось, тот шаг, который мы делаем, выходя за границы явления и придавая ему тот или иной смысл, остается на нашей совести (в этом правда Канта), но нельзя также отменить критикой явления, мистичного уже в любом своем обыденном выражении, его непосредственную очевидность, которая всегда открывает нам «иное» (и в этом правда Сведенборга, признанная Кантом). Поэтому было бы недоразумением считать «Грезы» неким разоблачением Сведенборга[61].
Сходное недоразумение возникло из-за учения Канта об априорных формах чувственности: иногда утверждают, что кантовская чистая форма пространства совместима только с евклидовой геометрией, тогда как именно это учение строго обосновало возможность неевклидовых геометрий. Вл. Соловьев, кстати, уверял, что Сведенборг «…раньше Канта понял и признал относительный, субъективный характер нашего пространства, времени и всего определяемого ими механического порядка явлений. Все это, по Сведенборгу, суть не реальности, а видимости (apparentia); действительные же свойства и формы всякого бытия, как математические, так и органические, – т. е. все положительное и качественно определенное – совершенно не зависят от внешних условий своего явления в нашем мире. Сам этот мир не есть что-нибудь безусловно-реальное, а лишь низшее «натуральное» состояние человечества, отличающееся тем, что тут apparentia утверждаются или фиксируются как entia»[62].
Вряд ли Соловьев прав, приписывая Сведенборгу это открытие: первопроходцем тут был Лейбниц; к тому же у Канта пространство и время не «субъективны», а идеальны, что как раз делает их объективными. Но если не придираться к словам, все же идеи обоих гениев отдаленно перекликаются: чувственный мир – это функция личности в некоторых ее аспектах, включая моральный. В этом одна из самых впечатляющих черт сведенбор-говских загробных миров. Та оболочка из вещей, домов, ландшафта, пространства, близких и далеких людей, которая вроде бы дана человеку извне и почти без участия его воли, воспроизводится и в преисподней и на небесах, так что человек не сразу осознает свою смерть. Но осознав, понимает, что сам создает свой мир и этим самым создает себе награду или наказание, длящиеся во всех мирах.
Вот любопытный фрагмент: оказывается, можно утверждать, что «вся жизнь, собственно, лишь умопостигаема, что она вовсе не подвержена изменениям во времени и не начинается рождением и не заканчивается смертью; что земная жизнь есть только явление, т. е. чувственное представление о чисто духовной жизни, и что весь чувственно воспринимаемый мир есть лишь образ, который мерещится нашему теперешнему способу познания и, подобно сновидению, не имеет сам по себе никакой объективной реальности; что, если бы мы созерцали вещи и самих себя так, как они существуют, мы увидели бы, что находимся в мире духовных существ…». Кажется, неплохое изложение взглядов Сведенборга. Между тем это цитата из Канта[63]. Рассуждая о допустимых по отношению к потустороннему миру гипотезах, кенигсбергский мудрец выбирает и прочувствованно излагает именно эту версию, в которой нетрудно узнать «грезы духовидца». Этим лишний раз доказывается, что Сведенборг был запретным, но соблазнительным плодом для критического метода Канта, чья внутренняя цензура не позволяла признать за такой картиной мира действительность, но в то же время не в силах была отказать ей в метафизической и моральной привлекательности.
Человеку нашего века, достигшему таких успехов в создании искусственных оболочек вокруг своего естественного бытия, что чувственный рай не всегда легко отличить от чувственного ада, опыт Сведенборга, что бы мы ни понимали под этим, может подсказать, что овеществлению человеческого мира полезно время от времени противопоставлять умение видеть внешний мир как пластическое выражение нашей моральной природы. Какой бы скромной ни была попытка посмотреть на жизнь с этой точки зрения, в ней всегда будет что-то от ясновидения: Кант дает это понять в «Грезах духовидца». Разумеется, назвать это произведение апологией Сведенборга тоже было бы неверным. Все же главная забота Канта в его рассуждениях – это статус метафизики[64]. Она «следит за тем, исходит ли задача из того, что доступно знанию, и каково отношение данного вопроса к приобретенным опытом понятиям [Erfahrungsbegriffen], на которых всегда должны быть основаны все наши суждения. В этом смысле метафизика есть наука о границах человеческого разума [ist die Metaphysik eine Wissenschaft von den Grenzen der menschlichen Vernunft], и если по отношению к небольшой стране, всегда имеющей много границ, более важно знать и удерживать ее владения, чем безотчетно стараться расширить их завоеваниями, то и польза от упомянутой науки хотя и мало кому ясна, но зато очень важна и получается только путем долгого опыта и довольно поздно»[65]. В этих словах – квинтэссенция «Грез духовидца» и предвосхищение основной установки первой «Критики», содержащей хрестоматийные слова о знании, которое Кант подвинул, чтобы дать место вере[66].
Не стоит забывать, что метафизическое искусство проведения границ порождает не только ограничение, но и расширение прав разума: Кант демонтировал сведенборгианский мировой континуум, но зато создал три автономных царства – теоретическое, практическое и телеологическое, в которых разум, не жертвуя собой, может выходить за собственные границы в «иное» и возвращаться не без трофеев[67].
А.Г. Габричевский о Гердере
Никак не скажешь, что Гердер был недооценен современниками или потомками. Но современность все же подсказывает, что его надо перечитать. Его роль инспиратора новаций весьма велика. Уже в 1771–1776 гг. Гердер – тогда советник консистории в Бюкебурге – становится деятельным участником движения «Буря и натиск». В начале 1770-х годов Гердер разрабатывает проблемы эстетики и языкознания. Его учение о «духе народа», который выражается в искусстве и народной поэзии, стоит у истоков фольклористики. Работа о происхождении языка дает одну из первых моделей естественного становления языка в ходе истории. Гердер отрицает генетическую субординацию языка и мышления, полагая, что они развиваются во взаимообусловленном единстве. Он не только отвергает богоданность языка, но и, полемизируя с Кондильяком и Руссо, утверждает его собственно человеческую специфику, находимую в мысли, практике и общественности.
В 1776 г. Гердер переезжает в Веймар, где становится генерал-суперинтендантом протестантской общины. Вместе с Гёте возглавляет веймарское содружество ученых и писателей. В этот период Гердер интенсивно занимается естественными и историческими науками, создает свой шедевр «Идеи к философии истории человечества» (опубликован в 1784–1791). (Подробнее об этом грандиозном труде, а также позднем творчестве Гердера см. в главе 3 «Культурфилософские идеи Германии XVIII – первой трети XIX в.».)
Несмотря на изоляцию в рамках зрелого немецкого Просвещения, мировоззрение Гердера стало арсеналом тем, идей и творческих импульсов для самых разных направлений немецкой мысли: для романтической эстетики и натурфилософии, гумбольдтианского языкознания, диалектической историософии Фихте и Гегеля, антропологии Фейербаха, герменевтики Дильтея, философии жизни, либеральной протестантской теологии. А.Г. Габричевскому удалось показать еще одну грань гердеровского гения, сближающую его с новейшей эстетикой.
Доклад А.Г. Габричевского «„Пластика“ Гердера»[68], сделанный в ГАХН 12 ноября 1925 г., дает пример радикальной реабилитации классической немецкой эстетики. В статье 1928 г. «Поверхность и плоскость» Габричевский видит большую проблему в том, что наука об искусстве довольствуется «предпосылками и моделями, догматически ею заимствуемыми из физики, физиологии и математики, не проверяя их на непосредственных данностях художественного как такового»[69]. Если же, полагает он, сделать источником теоретической модели сами эти данности, то «учение об элементах искусства не пребывало бы в том зачаточном состоянии, в каком оно находится сейчас, и вошло бы как органическая часть в общую натурфилософию»[70]. В качестве удачного опыта Габричевский приводит оптику Гёте, выросшую из объяснения живописи, и отмечает также, что «другие элементы пространственного творчества находятся в еще большем загоне: для понятия массы мы почти ничего не имеем, кроме гениально набросанной модели Гердера…»[71]. Габричевский имеет в виду текст, не слишком часто цитируемый даже историками эстетики: небольшую раннюю работу под названием «Пластика», написанную в 1778 г.[72]
Главный тезис Гердера – несводимость друг к другу художественных возможностей и способностей, основанных на трех фундаментальных для искусства типах чувственности, каковыми являются зрение, слух и осязание. Гердер подхватывает идею Лессинга о том, что нельзя все художественное сводить к оптическим искусствам как к критерию: нельзя говорить о том, что скульптура – это молчащая поэзия, а поэзия – это говорящая картина. Гердер – в ярости от этих привычных еще с античных времен метафор. Он полагает, что не надо смешивать эти миры, которые должны работать по-своему и оцениваться по собственным внутренним критериям.
Габричевский замечает: «Согласно Гердеру, большинство эстетических терминов заимствовано из области зрительного восприятия. Область осязания не только не исследована, но и все осязательные оттенки слов все более и более выветриваются [из языка]. А между тем осязание первичнее зрения, и на нем построено все искусство пластики. Феноменология осязания есть не что иное, как художественный принцип пластики»[73]. В построении эстетики Гердер идет не путем континентального дедуктивного рационализма и не английским эмпирическим путем: он пытается вывести формы искусства из конкретной чувственности, которая была бы не материалом, а активным элементом. (Собственно, в этом заключается и путь гердеровской философии языка.) Жизнь материала, таким образом, оказывается и заданием для художника, и условием восприятия красоты. Габричевский так оценивает новации Гердера: «В противовес абстрактной рационалистической эстетике своих современников, Гердер пытается построить науку о прекрасном „снизу“, путем анализа простейших „чувственных понятий“. Результатом такого анализа должно явиться точное разграничение чувственных сфер. „Феноменология“ этих сфер лежит в основе разграничения разных типов прекрасного и классификации искусств. Соответственно, и понятие красоты, „чувственное выражение внутреннего совершенства“ носит определенно натуралистический характер. Восприятие красоты есть вчувствование в некий максимум внутренней жизненной силы и движения, выражаемый во внешней чувственной форме»[74].
Критика оптического в «Пластике» оценочно окрашена: видимое, по Гердеру, осуществляет две функции – оно дистанцирует нас от того, что мы видим, а дистанцированное разбивает на рядоположные части, т. е. мы бы сегодня, зная уже хайдеггеровское «Время картины мира», сказали, что происходит отчуждение человека от объекта и внутри себя объективированное структурируется так, что части существуют как отдельные объекты целого. Гердер говорит, что в результате мы получаем иллюзорное воспроизведение реальности на плоскости. Он отнюдь не развенчивает живопись, но лишь утверждает, что в живописи надо видеть то, что она нам может дать; что нельзя заменить ничем другим. Это – объективированная действительность, которая охватывает целое. Сила живописи в том, что она может изображать остановленное и плоское бытие, но зато в совокупности всех сколь угодно детализированных элементов. Хорошая живопись даже преодолевает различие высокого и низкого, изображения достойного и недостойного. Но живопись в принципе не может художественно дать два других типа реальности, которые основаны на слухе и осязании.
Особенность слуха в том, что он дает временную последовательность акустических состояний и соответственно с ними связанных рациональных актов. Осязание дает нам форму и тело. Как показывает Габричевский, интересно уже то, что Гердер почти как синонимы употребляет два этих понятия. Форма – это обязательно объем, и объем дает нам пространство совсем не так, как картина. Это пространство (объем, фигура, форма), наполненное веществом. Но далее таким образом мы открываем силу. Сила, движущая веществом, пространством и временем, – это уже объемная картина космоса. Интересно, какими коннотациями окрашено это воспевание пластики. Гердер подчеркивает, что пластика – это обязательно действие: действие скульптора в первую очередь. Пространство скульптора приобретает овеществленность, а время здесь присутствует в виде динамического действия силы. То есть мы видим, что пластика, по сути, может претендовать, говоря вагнеровским языком, на статус Gesamtkunstwerk'а.
Для Гердера важно и то, что пластика может помочь в том случае, когда остальные чувства не работают. Это модная тема XVIII в. – попытка научить слепых, глухих воспринимать мир, в частности тема Дидро. Гердер подхватывает эту тему и говорит, что осязание обладает колоссальной продуктивной силой, оно может в ряде случаев быть субститутом зрения и слуха. Тогда как слух и зрение заменить осязание не могут, т. е. они не выводят нас к реальности. Очень важно, по Габричевскому, что осязание, в трактовке Гердера, сильнее рождает аффективный эмоциональный поток, тогда как живопись нас дистанцирует и успокаивает, делает холодными созерцателями. (Стоит заметить, что музыка во времена Гердера также была еще ассоциирована со своей античной эстетической идеей; она гармонизировала мир, рафинировала чувства. Так же как и театр, она выполняла терапевтическую, катартическую роль.) Пластика же, по Гердеру, прямо вбрасывает нас в материю и рождает поток чувственности. Гердер говорит, что настоящий скульптор должен эротически почувствовать материал, который он трогает (эротическая составляющая пластики у Гердера настойчиво дана прямым текстом). Поэтому пластика, прочувствованная не глазами, не умом, а телесностью, может получаться такой живой. Телесность и вещественность одинаково восхищают и Гердера, и Габричевского. Последний фактически показывает, что этот прорыв новой чувственно-материальной эстетики был не менее радикальным действием, чем открытие Лессингом литературно-временного, и столь же вовлекал в себя эпохальную идею исторической воли.
Габричевский восторженно характеризует «Пластику»: «Самое выразительное проявление в области эстетики того мироощущения, которое вылилось, с одной стороны, в творчество эпохи „Бури и натиска“ (в частности, молодого Гёте), с другой – в натурфилософию молодого Шеллинга <…> Одна из первых попыток онтологического обоснования художественной формы и единственный для того времени опыт систематического искусствознания не как приложения к эстетике, а как ее основания»[75]. В ГАХНовском докладе «Философия и теория искусства» (27 октября 1925 г.) он формулирует в какой-то мере программное положение: «…на наших глазах возникает своеобразная онтология художественного <…> которая, исходя из чувственной данности, отграничивает художественное не от других форм прекрасного, а непосредственно от других форм бытия. Поэтому, если раньше, например, в эпоху романтики, философская дорога от истории искусства и от индивидуального творческого акта художника вела к эстетике, то современный путь от искусствознания „ввысь“ ведет либо 1) к чистой онтологии с опасностью уклона в натурализм (Шмарзов), или 2) к философии жизни и творчества с опасностью уклона в метафизику (Зиммель), для которого сам метафизический предмет конструируется не по форме прекрасного, как, например, у Шеллинга в эпоху философии тождества, а именно по форме художественного предмета (традиция Гердера у молодого Шеллинга и у Гёте). В этом смысле современный теоретик искусства стоит всегда перед соблазном сенсуализма и натурализма, а историк искусства – перед соблазном построения широких культурно-метафизических схем. Поэтому всякая современная философия искусства должна постоянно оглядываться на феноменологию художественного, и только из нее могут быть почерпнуты принципы построения наук об искусстве»[76]. Гердер, как видно из этой схемы, стоит у истоков любимой Габричевским традиции «философии жизни», но не несет прямой ответственности за ее «метафизические уклоны».
ГАХНовские работы Габричевского показывают, что сам он легко преодолевает соблазн сенсуализма и натурализма, но соблазн «философии жизни и творчества» отнюдь не кажется ему смертным грехом. Гётеанство оказывается для него постоянным источником творческих интуиций[77], «метафизика» Зиммеля – методологией анализа культуры, а Гердер – примером революционного обращения к динамике формы. Цитированная выше статья «Поверхность и плоскость» является хорошим подтверждением сказанному.
В то же время императив оглядки на «феноменологию художественного» отнюдь не является риторическим оборотом. В отличие от эстетики, философия искусства, как подчеркивает Габричевский, имеет дело с формами бытия, а не красоты и поэтому должна беречь свою предметность и от объективистской натурализации, и от субъективистской психологизации.
В этом и основание для размежевания Габричевского с Зиммелем (при всем роднящем их витализме): «метафизический предмет» нельзя конструировать «по форме художественного предмета», поскольку задача в том, чтобы выявить его собственную форматуру, по отношению к которой «художественное» – творчески вторично. Гердер с его «онтологическим обоснованием художественной формы» оказывается в данном случае ближе Габричевскому, чем Зиммель.
Мы, таким образом, могли увидеть, что немецкая классическая эстетика подсказывает Габричевскому ключевые для его морфологического метода решения. Гердер – как и Гёте – от натурфилософского и историцистского витализма делает принципиальный шаг к автономии формы именно тем, что укореняет ее в единстве телесно-духовной практики. Соблазн более простого решения – растворения формы в практике – покончит с эпохой классики, но Габричевский чужд этому пути даже в поздний период своего творчества, когда к нему склонял сам идеологический язык времени. Стоит также заметить, что косвенные, но от этого не менее выразительные следы влияния гердеровских интуиций можно найти в работах Габричевского по теории архитектуры: в его разъяснениях отношений «динамического» пространства и «тектонической оболочки», в описаниях взаимодействия массы и плоскости, «оформляющего жеста» и «отвечающей материи»[78].
Гофман как философ культуры
Казавшийся благополучным век Просвещения, Разума и Гуманизма кончился в конце 80-х – начале 90-х годов XVIII в. весьма бурными событиями. Французская революция, которая открыла дорогу интенсивному буржуазному развитию Европы, выпустила на волю и демонов «ночи», безумия и бесчеловечности. Четверть столетия понадобилась для того, чтобы Европа вошла в колею более или менее спокойного развития, и теперь, два века спустя, мы видим, что за это время был выработан бесценный опыт, во многом определивший пути европейской культуры. Достаточно упомянуть одну лишь романтическую литературу, чтобы представить, сколь многим мы обязаны этой тревожной эпохе. Немецкие романтики, пожалуй, острее других своих современников ощутили, что все происходящее – это отнюдь не временное отклонение от идеалов Просвещения, а какой-то естественный и глубинный результат их развития.
Мы знаем, что сон Разума рождает чудовищ, но XVIII в. никак не назовешь сонным. Не странно ли, что именно он породил тему «ночной» стороны души? Как разгадать этот поворот культурного сознания? Как и каждая великая эпоха, наступившее вслед за Средними веками Новое время заново открыло для себя Человека. Для него Человек уже не звено в хитросплетениях Космоса (как для Античности) и не ступень в иерархии земного и небесного (как для Средневековья), а высшая ценность и «квинтэссенция» бытия. И, может быть, самое главное – единственная безусловная ценность. Двойственность, противоречивость такого человеколюбия (если ты высшая и единственная ценность мира, то ты ответствен за весь мир и все его зло) была глубоко прочувствована уже в канун Нового времени.

