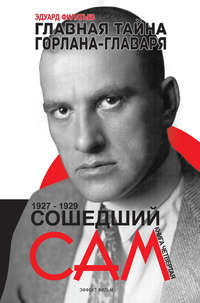
Главная тайна горлана-главаря. Сошедший сам
Сфотографировавшись с нами, он ушёл, – наша литературная молодёжь потащила его в "Молот". Рано утром наш фоторепортёр отправился к нему в гостиницу "Деловой двор", поднял его с постели и сфотографировал его ещё раз, в какой-то полосатой кофте, с угрюмым лицом…»
14 февраля – выступление в Краснодаре. Присутствовавшая на нём Н.Ерохина вспоминала:
«Он окидывал весь зал и балконы изучающим взглядом, готовясь говорить. Вдруг с боковых балконов раздалась хоровая декламация его известных надписей к этикеткам на коробках папирос – "Нигде кроме как в Моссельпроме!!". Это была злая насмешка группки обывателей над творчеством Маяковского, вызов поэту. А он стоял посреди сцены, спокойный и величественный, и внимательно смотрел серьёзным взглядом на кричавших. Под его взглядом крикуны стали умолкать. Невозмутимым голосом он спросил:
– Вы кончили? Можно начинать?
В ответ на эти слова весь зрительный зал наполнился гулом голосов: "Не слушайте их, мы любим вас, говорите, Маяковский!"»
Краснодарская газета «Красное знамя»:
«Маяковский рассказал об американской индустриальной мощи и об американизме в жизни лучше, интересней и образней, чем сотни книг об Америке… Затем читка стихов».
Краснодарец В.Пашков:
«Когда он признался, что пишет стихи о Краснодаре, с разных мест понеслось:
– Прочтите их, прочтите!
– Нет, товарищи, стихотворение только вылупляется».
В стихотворении, названном «Краснодар», рассказывалось о том, что поэт обратил внимание на множество собак в этом городе:
«Вымыл всё февраль / и вымел —
не февраль, / а прачка,
и гуляет / мостовыми
разная собачка…
Даже / если / пара луж,
в лужах / сотни солнц юлится.
Это ж / не собачья глушь,
а собачкина столица».
Краснодарец Н.Арсенов:
«– Я читаю ваши стихи, но ничего не понимаю, – перегнувшись, кричит какой-то студент с балкона.
– Что же вы не понимаете? Вот я вам целых два часа читал стихи, скажите, что вы не поняли?
Студент молчит».
В.Пашков приводит совет Маяковского тем, кто собирался начать писать:
«Пишите, не отрываясь от той профессии, которая даёт вам хлеб, мясо, рубашку и воскресное кино».
Кавказские выступления
19 февраля 1926 года состоялось выступление Маяковского в Оперном театре города Баку.
Газета «Бакинский рабочий»:
«Маяковский как чтец превосходен: могучий голос, чёткая дикция и хорошее владение декламационной акцентировкой – качества, которыми литераторы блещут не часто… Закончил Маяковский знаменитым "Левым маршем", прозвучавшим в его исполнении особенно чётко и убедительно».
Александр Михайлов:
«Если кто-то по обрывочным воспоминаниям представляет, что поэтические вечера Маяковского – это битком набитые залы, конная милиция, сплошной триумф, то у него ошибочное представление. Были битком набитые залы, была конная милиция, были вечера, которые кончались триумфом поэта. Но были и полупустые холодные залы, была на вечерах зелёная молодёжь, пришедшая на очередное "мероприятие" или поразвлечься. Публику надо было приучить слушать стихи. Нужна была реклама, чтобы заинтересовать людей, пригласить в театр или клуб. Остальное поэт брал на себя».
20 февраля в Москву полетело письмо Лили Брик:
«Дорогая и родная моя Кисица!
(Это я сделал из Киса и Лисица.)
Я живу сию минуту в Баку, где я видел (а также и по дороге) много интересного, о чём и спешу тебе написать…
Я живу весело: чуть что – читаю "Левый марш" и безошибочно отвечаю на вопросы – что такое футуризм и где теперь Давид Бурлюк…
Во вторник или среду утром еду Тифлис и, отчитав, поскорее в Москву…
Надоело – масса бестолковщины. Устроители – молодые. Между чтениями огромные интервалы, и ни одна лекция не согласована с удобными поездами. Поэтому, вместо международных, езжу, положив под голову шаблонное, с клещами звёзд огромное ухо.
Здесь весна. На улице продают мимозы. <…> Направо от меня Каспийское море, в которое ежедневно впадает Волга, а выпадать ей некуда, т. к. это море – озеро и положение его безвыходное».
Как видим, ко всем дорожным передрягам Маяковский относился спокойно, так как знал, что московскую квартиру ждёт ремонт, на который надо заработать деньги. И он писал:
«Дорогой Солник, очень тебя жалею, что тебе одной возиться с квартирой, и завидую, потому что с этим повозиться интересно.
Я по тебе, родненький, очень соскучился. Каждому надо, чтобы у него был человек, а у меня такой человек ты. Правда.
Целую тебя обеими губами, причём каждой из них бесконечное количество раз.
Весь твой С ч е н 1-ый (Азербайджанский)».
Под «Сченом 2-ым», Маяковский, видимо, подразумевал собачку Скотика.
24 февраля Владимир Владимирович покинул Баку и отправился в Тифлис, где уже через день состоялось его первое выступление. В театре Руставели поэт делал доклад «Моё открытие Америки». Присутствовавший на этом вечере молодой поэт Василий Абгарович Катанян написал:
«Зал был наполовину полон или, как сказал бы пессимист, – наполовину пуст.
Маяковский был пессимист. Но, выйдя на сцену и обнаружив это грустное обстоятельство, он не стал его игнорировать и замазывать. Скорее, наоборот: хладнокровно подчеркнул его и пожелал выяснить – как и почему это могло произойти.
– Может, мало было афиш? Поздно расклеены? Кто пришёл, прочитав афишу, поднимите руку! Или билеты дороги? Но надо же понимать, что доклад идёт в пользу недостаточных студентов Первого московского университета!
Несколько раз на протяжении вечера он возвращался к этой теме:
– В самом деле, как это могло случиться? В Тифлисе стихов не любят? Нет? Не может быть! Но какое же тогда можно найти объяснение?
Под конец чуть ли не весь зал втянулся в обсуждение этого происшествия и сознавал свою ответственность за досадное недоразумение.
Маяковский держался просто, дружелюбно, разговаривал полушутливо-полусерьёзно, а когда контакт был установлен, началось само "Открытие", в котором серьёзное не смешивалось, а чередовалось с шутками…
Потом – стихи…
После вечера на нескольких извозчиках поехали к Кириллу Зданевичу…»
У художника Кирилла Михайловича Зданевича отмечали приезд поэта в родную Грузию.
Маяковский очень любил край, в котором родился, и даже написал о нём:
«Я знаю: глупость – эдемы и рай!
Но если пелось про это,
должно быть, Грузию, радостный край,
подразумевали поэты».
На следующий день Василий Катанян и его жена Галина сопровождали Маяковского в его прогулке по Тифлису. Галина Дмитриевна потом вспоминала:
«Мы отправились по проспекту Руставели покупать ковры.
– Для моей новой квартиры, – говорит Владимир Владимирович. – Её уже отремонтировали, и на днях моя семья переезжает в новую квартиру.
– А кто ваша семья? – спрашиваю я не без дурного любопытства, так как в те времена ходило много разговоров о личной жизни Маяковского.
Он смотрит на меня очень строго и строго же говорит:
– Моя семья – это Лиля Юрьевна и Осип Максимович Брик».
1 марта состоялось второе выступление – в том же театре имени Руставели.
Галина Катанян:
«Выйдя из-за кулис, он быстро проходит на авансцену и обращается к публике с приветствием на грузинском языке. Восторженные аплодисменты раздаются в ответ».
Однако на этот раз Маяковский немного огорчён. Об этом – Василий Катанян:
«На втором вечере в том же театре Руставели он был уже не так добродушно дружелюбен. Причиной тому была рецензия о первом вечере, успевшая появиться в "Заре Востока". Нахально и небрежно рецензент писал, что Маяковский мог бы сочинять свои стихи об Америке, и не выезжая из Москвы. Маяковский громко поносил его на все лады, негодовал и возмущался, а написавший эти строки беззлобный дурак сидел в третьем ряду и всем своим видом старался не показать, что это он.
Зал был уже почти полон…
Публика осмелела, из зала несутся на сцену реплики, замечания, вопросы. Вечер называется "Лицо литературы СССР"».
Галина Катанян:
«Маяковский читает свои стихи…
Как описать, с чем можно сравнить это?..
У него глубокий бархатный бас, поражающий богатством оттенков и сдержанной мощью. Его артикуляция, его дикция безукоризненны, не пропадает ни одна буква, ни один звук».
Среди других было прочитано стихотворение, написанное во время возвращения из Америки – «Домой». Галина Катанян:
«Одно стихотворение – но сколько в нём смен настроений, ритмов, тембров, темпов и жестов! А строки
"Маркита, / Маркита, / Маркита моя,
зачем ты, / Маркита, / не любишь меня…"
он даже напевал на мотив модного вальс-бостона.
Конец же
"Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят — / что ж?!
По родной стране / пройду стороной,
как проходит / косой дождь" —
он читал спокойно, грустно, всё понижая голос, сводя звук на полное пиано. Впечатление, произведённое контрастом между всем стихотворением и этими заключительными строками, было так сильно, что я заплакала».
Василий Катанян:
«Его спрашивают:
– Как вы относитесь к Демьяну Бедному?
– Читаю, – ответил Маяковский.
– А к Есенину (прошло два месяца со дня его смерти)?
– Вообще к покойникам я отношусь с предубеждением.
– На чьи деньги вы ездите за границу?
– На ваши.
– Часто ли вы заглядываете в Пушкина?
– Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть.
Девушке, которая то и дело передаёт ему записки на сцену, он говорит:
– Кладите на рояль. Когда наполнится, я их вместе с роялем возьму.
После вечера снова несколько извозчиков. Уже прямо на вокзал».
Снова Москва
28 февраля 1926 года в Ленинграде у Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Иосифа Сталина, родилась дочь, которую родители назвали Светланой. Девочка родилась в Ленинграде, куда Надежда Сергеевна для этого уезжала.
Борис Бажанов:
«Когда она вернулась, и я её увидел, она мне сказала: “Вот, полюбуйтесь моим шедевром”. Шедевру было месяца три, он был сморщенным комочком. Это была Светлана. Мне было разрешено в знак особого доверия подержать её на руках (недолго, четверть минуты – эти мужчины такие неловкие)».
Страна о рождении дочери Сталина, конечно же, ничего не знала – ведь отец новорождённой в тот момент ещё не стал вождём всех времён и народов.
А Маяковский в начале марта вернулся в Москву. И сразу узнал, что говорилось о судьбе поэтов-лефовцев в письме Асеева, которое было передано члену политбюро Льву Троцкому. В письме были такие строки:
«Печально и безрадостно отцветает молодость Василия Каменского, поэта исключительного темперамента и эмоциональной одарённости…
Книга Б.Пастернака, поэта европейского масштаба высокой квалификации, "Сестра моя жизнь"… не издана ГИЗом…
И.Л.Сельвинский, поэт очень крупного дарования, …не имеет возможности печататься и заниматься целиком своим делом (служит в Сельскосоюзе)…
Поэтам В.В.Маяковскому и Н.Н.Асееву заявлено, чтобы они со своими произведениями в ГИЗ являться "не беспокоились" по крайней мере сроком один год.
Тираж последней книжки стихов В.Маяковского – всего 2000 экземпляров. <Тогда как> лекции Маяковского с чтением тех же самых стихов собирают до 8000 человек… Вход на эти лекции стоит в среднем 1 р. 50 к., что не превышает средней цены книжных стихов.
Мы не жалуемся и не ноем. Мы с полным сознанием ответственности за своё "право на песни" в настоящих хозяйственных условиях страны пытаемся указать на тот хаос и бесхозяйственность, на то снижение уровня квалификации, которых можно избежать, дав возможность стихотворцам участвовать в организации и распространении своего труда на уровне с другими видами производств, хотя бы на небольшом масштабе показательного хозяйства».
Но настоящим вождём страны Советов (с правом что-то решать) Троцкий уже не был, и заседать в политбюро ему осталось всего полгода, поэтому письмо Асеева почти ничего в писательских делах не изменило.
23 марта Маяковский подписал договор с театром Мейерхольда на «Комедию с убийством» (срок сдачи – «через две недели»). В комментариях к 11 тому собрания сочинений поэта об этой пьесе говорится:
«Возможно, что в “Комедии с убийством” сопоставлялись две девушки: одна из Советского Союза, которая “хочет красивой жизни”, и другая – из Америки, – та “пресытилась” и едет в СССР… Что касается “убийства”, значащегося в заголовке комедии, то оно может быть соотнесено только со словом “Дуэль” в записи содержания двенадцатой картины».
Больше никакой конкретной информации об этой пьесе до наших дней не дошло. Но Всеволод Эмильевич Мейерхольд, обрадованный тем, что Маяковский решил-таки написать для театра пьесу, отправил поэту письмо:
«Дорогой друг Маяковский.
Ты мне сказал вчера, что я всё молодею и молодею. Сообщаю Тебе, что со вчерашнего дня с моих плеч свалился ещё десяток лет. Это оттого, что мне предстоит ставить Твою пьесу. Буду ставить её сам, но Тебя буду просить помогать мне…
Любящий Тебя В с е в о л о д».
Но этот договор поэт не выполнил, пьесу «через две недели» театру не предоставил, так как его отвлекли житейские заботы – состоялся долгожданный переезд в новую квартиру. Поскольку одновременное обладание четырёхкомнатной квартирой и комнатой в коммуналке вызывало попытки лишить поэта подобной неслыханной роскоши, ему пришлось обратиться за помощью к властям. И 23 апреля Моссовет издал постановление:
«Принимая во внимание, что поэтом Маяковским в доме № 15 по Гендрикову пер. произведено переустройство квартиры и ремонт последней за его счёт, управление делами президиума Московского Совета считает вполне справедливым оградить интересы просителя от мероприятий, связанных с возможностью переселения или уплотнения поэта Маяковского».
Став обладателем такой бумаги, Владимир Владимирович мог спать спокойно – больше его по жилищным вопросам беспокоить никто не мог (из тех, кто зарился на эту квартиру).
Софья Шамардина:
«Чужих – чуждых – в этот дом не пускали. Это был настоящий советский дом и прекрасное, крепкое содружество живущих в нём. На входных дверях – гладкая дощечка, такая знакомая, привычная:
БРИК
МАЯКОВСКИЙ»
Завершив «квартирные» дела, вернувшийся в Москву поэт продолжил свои выступления.
Воспоминания о загранице
Тем временем экспедиция Николая Рериха столкнулась (в ставке очередного местного властителя) с новыми препятствиями. Путешественникам не разрешили посещать буддийские храмы. Даже осматривать их было нельзя. Рериху также запретили рисовать, сославшись на то, что он якобы составляет карту местной территории. 29 марта 1926 года Рерих записал в своём путевом дневнике:
«Приходят калмыки, толкуют с нашим ламой».
31 марта в дневнике появилась новая запись:
«Спали плохо. Встали до рассвета. Выхожу в предрассветной мгле. Навстречу идёт наш лама. Расстроенный. “Сейчас мне надо ехать. Нас хотят арестовать”. – “Кто сказал?” – “Ночью пришёл знакомый по Тибету лама и сказал, что ещё вчера калмыцкие старшины хотели нас всех связать, только побоялись револьверов”. – “Берите Оллу и киргиза с собой. Скачите степью в Карашар. Там найдём вас”. Через пять минут лама с киргизом уже скакали степью».
А Маяковский на своих поэтических вечерах продолжал делиться впечатлениями от своих зарубежных поездок. Советские люди, не имевшие возможности ездить в чужие края, очень интересовались тем, как живут в странах, где продолжал править «загнивавший» капитал. При этом Маяковский не скрывал, что сам он в партии большевиков не состоит и официально нигде не работает, но по заграницам разъезжает регулярно. Раззадорив любопытство публики, поэт бросал в зал фразы, воспевавшие его страстную любовь к зарубежным поездкам:
«Я до путешествий очень лаком!»
Но при этом неизменно подчёркивал, что ездит не ради развлечений:
«Мне необходимо ездить, общение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг».
Мало этого, в стихах Владимир Владимирович прямо заявлял, как тяжела эта ноша путешествующего по чужеземным городам и весям:
«Почему / под иностранными дождями
вымокать мне, / гнить мне / и ржаветь?»
И даже говорил (как, к примеру, в поэме «V Интернационал»), что зарубежные поездки никакой радости ему не доставляют:
«В том, что я сказал, / причина хранится,
почему мне не нужна никакая заграница.
Ездить в духоте, / трястись, / не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялится?»
Поэтому неудивительно, что практически на каждом выступлении его спрашивали:
– Зачем же вы тогда ездите за границу?
Он отвечал, не задумываясь:
«– Я делаю там то же, что и здесь. Там я писал стихи и выступал на собраниях, говорил о Коммунистической партии».
Но зрителей такой ответ не удовлетворял, и они продолжали присылать вопросы в записках:
– Если вам не нравятся зарубежные края, почему же вы там оказались?
Ответ у Маяковского был всегда наготове:
«Я ездил потому, что:
Под ним – струя светлей лазури,
над ним – луч солнца золотой,
а он, мятежный, ищет бури,
как будто в бурях есть покой!»
Зал, как свидетельствуют те, кто присутствовал на поэтических вечерах Маяковского, мгновенно начинал дружно аплодировать, то ли награждая поэта за элегантный ответ, то ли отдавая должное его умению ловко уклоняться от прямых ответов на каверзные вопросы.
В самом деле, ведь, прочитав четверостишие Лермонтова, Маяковский так ничего и не сказал по существу заданного ему вопроса. А, как известно, если уходят от прямых ответов, стало быть, есть что скрывать. Когда же приходила записка с вопросом, почему он отвечает не своими словами, а цитирует Лермонтова, Маяковский отвечал:
«– Мы общей лирики лента».
Иными словами, понимайте, как хотите.
11 апреля 1926 года, выступая в клубе рабкоров газеты «Правда» на диспуте о книге поэта Георгия Аркадьевича Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы», Маяковский сказал:
«Меня считают первым поэтом сейчас. Я и сам знаю, что я хороший поэт. Но хореи и ямбы мне никогда не были нужны, и я их не знаю. Я не знаю их и не желаю знать. Ямбы задерживают движение поэзии вперёд».
Впрочем, в накалённой атмосфере тогдашних литературных споров, по словам Александра Михайлова…
«… трудно было ждать от Маяковского деликатности, академического политеса – не тот темперамент!
Когда Маяковский был в ударе, он спорил, как фехтовал, с лёгкостью чемпиона, сказал о нём кто-то из современников. Но бывали случаи, когда нападки на вечерах, открытая, наглая ложь выводили его из равновесия. Был даже случай, когда он в знак протеста ушёл с эстрады, но, поостыв, вернулся и продолжил выступление до последней точки».
В главке «1926-й ГОД» автобиографических заметок «Я сам» сказано:
«В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают – однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому кроме супруги не интересно.
Пишу в "Известиях", "Труде", "Рабочей Москве", "Заре Востока", "Бакинском рабочем" и других».
О чём же в тот момент писал Маяковский, к чему призывал со страниц этих газет?
Сочинив стихотворение «Марксизм – оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот», он поставил под ним дату создания – «19/IV.1926.». В этом произведении вновь упоминался «штык» – тот самый, к которому поэт приравнивал своё перо. Но на этот раз говорилось о том, что некоторые находили этому острейшему оружию совсем другое применение:
«Штыками / двух столетий стык
закрепляет рабочая рать.
А некоторые / употребляют штык,
чтоб им / в зубах ковырять».
А между тем, напоминал Маяковский, штык существует для того, чтобы им убивать врагов. И начинал колко критиковать поэтов, называвших себя «пролетарскими», и уже за это воспевавшихся критиками, которые громили лефовцев. За что? – удивлялся Маяковский. И тут же отвечал, представляя творения некоего пролетарского поэта Стёпы:
«То ли дело / наш Стёпа —
забыл, / к сожалению, / фамилию и отчество, —
у него в стихах / Коминтерна топот…
Вот это — / настоящее творчество!..
У Стёпы / незнанье / точек и запятых
заменяют / инстинктивный / массовый разум,
потому что / батрачка — / мамаша их,
а папаша — / рабочий и крестьянин сразу.
В результате / вещь / ясней помидора
обвалакивается / туманом сизым,
и эти / горы / нехитрого вздора
некоторые называют марксизмом».
Критикуя поэта Стёпу за «незнанье точек и запятых», которые и сам Маяковский не научился расставлять правильно, поэт-лефовец провозглашал себя и своих соратников носителями «инстинктивного массового разума». Это «марксистское» стихотворение было напечатано в майском номере журнала «Журналист».
Корней Чуковский записал в дневнике о посещении поэта-футуриста Бенедикта Лившица:
«24 апреля 1926 года… Был я у Бена Лившица… О поэзии может говорить по 10 часов подряд… Между прочим, мы вспомнили с ним войну. Он сказал:
– В сущности, только мы двое честно отнеслись к войне: я и Гумилёв. Мы пошли в армию – и сражались. Остальные поступили, как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком. Маяковский… но, впрочем…
– Маяковский никого не звал в бой…
– Звал, звал. Он не сразу стал пацифистом. До того, как написать “Войну и Мир”, он пел очень воинственные песни:
У союзников французов
битых немцев целый кузов.
А у братьев англичан
битых немцев целый чан».
А Маяковский о войнах, которые шли когда-то, уже не вспоминал. В конце апреля того же 1926 года он завёл разговор о поэтическом творчестве с финансистами, которые, как ему казалось, облагали поэта слишком большим подоходным налогом. Стихотворение так и было названо – «Разговор с фининспектором о поэзии». В нём были строки, ставшие вскоре крылатыми:
«Поэзия — / та же добыча радия.
В грамм добыча, / в год труды.
Изводишь / единого слова ради
тысячи тонн / словесной руды».
Обращаясь к фининспектору, поэт выделял свою профессию из числа других:
«У вас — / в моё положенье войдите —
про слуг / и имущество / с этого угла.
А что, / если я / народа водитель
и одновременно — / народный слуга?»
Но при этом Маяковский откровенно признавался в том, как это трудно – быть поэтом в революционную эпоху:
«Всё меньше любится, / всё меньше дерзается,
и лоб мой / время / с разбега крушит.
Приходит / страшнейшая амортизация —
амортизация / сердца и души».