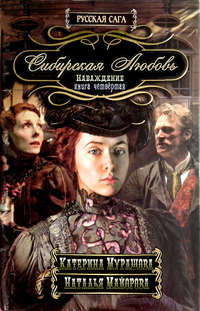
Наваждение
Измайлов Андрей Андреевич, инженер (44 года)
Подруги Софи:
Евдокия Водовозова (30 лет)
Елена (Элен) Николаевна Скавронская-Головнина (32 года)
Матрена Агафонова, журналистка (36 лет)
Ольга Васильевна Камышева (32 года)
Кэти (29 лет)
Мари Оршанская (Шталь) (34 года)
Ирина Гримм (32 года)
Кузьма, хозяин кухмистерской «У Лизаветы» (30 лет)
Лизавета, любовница Ефима и невеста Кузьмы (убита Грушей)
Даша – бывшая проститутка, ныне жена булочника (30 лет)
Кусмауль Густав Карлович, бывший полицейский следователь, ныне в отставке (66 лет)
Мещерский Владимир Павлович, князь, отец Николаши Полушкина
Егорьевск
Гордеевы:
Иван Парфенович (умер в 1884 г.) – купец и промышленник, фактический основатель Егорьевска.
Марфа Парфеновна, его сестра (умерла)
Марья Ивановна, его дочь (39 лет)
Петр Иванович, его сын (44 года)
Элайджа (жена Петра Ивановича) (45 лет)
Их дети – Анна (Зайчонок) (15 лет)
Юрий (Волчонок) (17 лет)
Елизавета (Лисенок) (18 лет)
Иван Притыков – внебрачный сын Гордеева (30 лет)
Настасья Притыкова, его мать (49 лет)
Сергей Алексеевич Дубравин (живет под именем Дмитрия Михайловича Опалинского) (42 года)
Шурочка Опалинский, сын Сергея Алексеевича и Марьи Ивановны (17 лет)
Златовратские:
Левонтий Макарович – начальник училища (56 лет)
Леокардия Власьевна – его жена (54 года)
Аглая Левонтьевна (35 лет)
Любовь Левонтьевна (30 лет)
Надежда Левонтьевна (33 года) – их дочери
Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин – муж Нади (42 года)
Николай Викентьевич Полушкин (Иван Самойлов) (45 лет)
Евпраксия Александровна Полушкина – мать Николая (63 года)
Василий Полушкин – сводный брат Николая (35 лет)
Фаня Боголюбская, бывшая попадья, ныне монашка в Ирбитском
монастыре (38 лет)
отец Андрей – настоятель Крестовоздвиженского собора, в прошлом муж Фани (41 год)
отец Михаил, священник – отец Фани (63 года)
Арина Антоновна – жена отца Михаила и мать Фани (60 лет)
Вера Михайлова, бывшая горничная Софи (44 года)
Ее воспитанники: Соня (19 лет) и Матвей (19 лет)
Стеша, ее дочь (8 лет)
Матвей Александрович Печинога, инженер, гражданский муж Веры (убит во время бунта на прииске)
Никанор, бывший камердинер Сержа Дубравина, отец Стеши (убит казаками)
Алеша, остяк, друг Ивана Гордеева, «король» тайги, сожитель Веры (умер).
Варвара Остякова, его дочь (33 года)
Манька Щукина, сестра Сони (25 лет)
Крошечка Влас, друг Маньки (27 лет)
Айшет, киргизка, служанка в доме Златовратских (31 год)
Анисья; Мефодий; Игнатий – слуги в доме Гордеевых
Роза и Самсон, мать и отец Элайджи, хозяева трактира «Луизиана» (64 и 66 лет)
Илья Самсонович, их сын, хозяин трактира «Калифорния» (39 лет)
Хайме, калмычка, служанка в трактире (55 лет)
Евдокия, странница (63 года)
Глава 3
В которой Ришикеш Рита опасается чего-то неопределенного, а Любочка Златовратская хочет изменить свою жизнь.
Будуар был обставлен в неоготическом стиле. Остроконечная устремленность исполненной из орехового дерева мебели придавала всему интерьеру странный, какой-то неуместно агрессивный вид. Темно-синий бархат обивки и голубые стены (а, как известно, синий цвет успокаивает) еще подчеркивали парадоксальность обстановки, и делали ее откровенно, хотя и невнятно, говорящей. Неуместная в будуаре неоготика явно хотела что-то сообщить или даже навязать случайному (или неслучайному?) зрителю.
Хрупкая женщина с живыми, широкими, почти сросшимися на переносице бровями, которые практически уничтожали в визуальном восприятии ее узкий и бледный лоб, сидела на кровати, покрытой фиолетовым покрывалом. Серебряные месяцы, вытканные на нем, странно, и, пожалуй что, неприятно гармонировали с ее вымученно изогнутой улыбкой и даже с продолговатыми глазами, в глубине которых тоже переливалось тускловатое рыбье серебро.
– Я не хочу и не могу больше ждать, Николаша, – сказала женщина. Голос ее звучал ровно, но где-то вблизи чувствовалась подступающая истерика. – Не желаю. Ты слышишь?
Мужчина стоял возле окна. Мучительный вечерний свет, проникавший через окно из узкой, похожей на ущелье петербургской улицы, не красил его лицо, делал его землистым и брезгливым. Черты этого лица, впрочем, можно было бы назвать правильными и даже породистыми. Вместе с тем присутствовала в них некая несоответственная более чем зрелому возрасту мужчины расплывчатость и неопределенность. Внимательному наблюдателю могло бы показаться, что этот человек начал стариться прежде, чем окончательно повзрослел.
– Я не понимаю тебя, Любочка. Чего тебе не хватает? Я даю тебе слишком мало денег? Так скажи прямо. Я надеюсь, что это скоро изменится… Честное слово, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы выслушивать твои упреки и глядеть на истерики…
– А для чего? Для чего ты сюда пришел? Скажи прямо… – язвительно передразнила женщина.
– Изволь. Я прихожу сюда, как в то место, где я могу сбросить опостылевшую маску и быть самим собой. Место, где я хочу отдохнуть возле женщины, которую я люблю и которая любит меня… Этого достаточно?
– Нет! Теперь – нет! – резко вставая, ответила женщина. Приблизившись почти вплотную к мужчине, она едва доставала ему макушкой до подбородка. – Много лет мне было достаточно меньшего. Я ждала в Егорьевске, живя от одного твоего письма до другого. Потом я приехала сюда и много лет ждала уже тут. Ты поселил меня в этой квартире и пообещал, что все это ненадолго и скоро мы сможем окончательно быть вместе. Я поверила тебе и опять ждала. НО где это все?!
– О чем ты говоришь? Что такое «все», Любочка? Я обижал тебя? Обманывал касательно моего действительного здесь положения? За эти годы я когда-нибудь давал тебе повод усомниться в моей любви?
– Твоя любовь? А в чем, позволь узнать, она проявляется? В том, что ты меня содержишь? Очень, надо сказать, скромно содержишь, но за то я, поверь, не в обиде. Я знаю, что у тебя просто нет больших средств. Но вот другое… Ты приходишь сюда, отдыхаешь душой, сбросив, как ты сам выражаешься, маску, пользуешься моим телом, которое всегда к твоим услугам, рассеянно целуешь меня на прощание и уходишь обратно, к своим делам, интригам, надеждам и разочарованиям, к друзьям и недругам, к своей действительной жизни. А я остаюсь… Сижу, гляжу в окно, читаю опостылевшие романы, бранюсь с кухаркой и мужиком, который приносит дрова…
– Но, Любочка, так живут тысячи женщин в Петербурге. И по всей России… Я опять не понимаю тебя. Тебе скучно? Сочувствую тебе. Но в чем же ты видишь выход? Ты что, хочешь поступить на службу? Но что ты станешь делать?
– Я хочу, пока еще не стало поздно, пожить настоящей жизнью, ради которой я…
– Да что же это за жизнь такая, черт подери, объясни же ты мне наконец! – раздражение исковеркало и еще стерло черты лица мужчины, сделало его не столько старым, сколько призрачно-несуществующим. – Может быть, ты ее просто выдумала, эту жизнь, еще там выдумала, в егорьевской глуши? А по правде ничего такого и вовсе нет!
– Неправда! – вскинув голову, выкрикнула Любочка, и мелкие капельки ее теплой слюны осели на скулах Николаши. – Все есть, да только не для меня! Я уже много лет живу здесь на таком положении, каковое вообще не подобает приличной женщине, а тебе все это трын-трава… Я могла бы так жить и в Егорьевске, но там, по крайней мере, у меня мать, отец, сестры, подруги… Я все это бросила ради тебя, а ты сделал меня… Я не такая….
– Люба! Я, кажется, понял. Ты страдаешь от того, что мы с тобою живем невенчаны. Хорошо! Ты видишь, я готов во всем потакать тебе. На той неделе поедем куда-нибудь в уезд, там за соответствующую мзду любой попик нас тайно обвенчает…
– Я не хочу – тайно!! – взвилась Любочка. – Я хочу везде бывать вместе с тобой, хочу знать твоих друзей и иметь своих. Хочу принимать их в своем, в нашем доме… Хочу открыто ходить с тобой в театр и в концерты… Я хочу, чтобы этот мир меня увидел, наконец! Не бойся, я не опозорю тебя, я многому научилась, манеры у меня не хуже, во всяком случае, чем у Софи Домогатской…
В ответ на упоминание этого имени Николаша поморщился, как от невралгической боли, и осторожно снял с лацканов сюртука цепкие пальчики Любочки, которые вцепились в него в пылу спора.
– Люба! Ты же знаешь, что сейчас все это невозможно! Я объяснял тебе тысячу раз…
– Объясни еще раз, не возьми за труд. Может быть, я, наконец, разберу…
– Хорошо. Мой кровный отец – Владимир Павлович Мещерский, маменька Евпраксия Александровна сказала мне об этом много лет назад. Владимир Павлович – опытный царедворец, входит и к прошлому, и к нынешнему государю без доклада. Однако положение его, тем не менее, опасно и щекотливо, так как всегда есть желающие свалить очевидного, тем более многолетнего, фаворита и сесть на его место.
Я приехал сюда, к нему два года спустя, как после бунта бежал из Егорьевска. Ты, еще ребенок, тогда помогла мне, фактически спасла. Я этого не забыл, как видишь. Меня разыскивала полиция, или можно было так полагать, у меня совсем не было средств. Я даже не мог официально объявиться под своим собственным именем. Впрочем, какое оно было мое, если Викентий Савельевич когда-то матушку за себя взял уже беременной мною!.. При всем при том Владимир Павлович принял меня, представил в свет под именем своего какого-то дальнего родственника Ивана Самойлова (он тоже проживает или жил в Сибири). Нынче у меня есть известные знакомства, я уж несколько лет пытаюсь сотрудничать в журналах, другие еще дела и связи… Могу ли я теперь быть неблагодарным?
– В чем же неблагодарность, ежели ты, Николаша, или пусть Иван Самойлов, теперь меня благодетелю представишь, как свою жену? В твоих годах, пожалуй, неженатым страннее быть…
– Любочка! – Николаша мученически заломил кисти и правую бровь. – Ты настаиваешь, чтоб я вслух объяснился? Но это же…
– Настаиваю! – женщина притопнула изящной ножкой в домашней, вышитой туфельке. – Уж как-нибудь переживу…
– Изволь. Владимир Павлович имеет давнее пристрастие к содомской любви. Как уж там и на каких чувствах он в юности матушку мою оприходовал, и меня породил – того мне неведомо, но вроде бы не только у ней, но и у него сомнений в том нет. Стало быть, было. Но после уж все складывалось иначе… Когда он меня откуда-то из Сибири принял, и у себя в доме поселил, все подумали… Понятно, что? И он в том никого не разубеждал…
– Господи! – воскликнула Любочка, прижав ладони к внезапно загоревшимся щекам. – Значит… Значит, все эти годы ты… Ох, Николаша! Он фактически представил тебя всем не как своего сына, а как своего… любовника? Какой кошмар! Но как…
– Разумеется, он сразу растолковал мне, зачем и почему это делает, и тогда я просто не мог с ним не согласиться. Какое-то объяснение ведь должно было быть. Он меня совершенно не знал, видел впервые в жизни, матушкин медальон и письмо, конечно, сыграли свою роль, но… В общем, он просто не мог рисковать, учитывая еще ту историю, которая за мной тянулась, и его собственное положение… Тогда я принял все, как есть, надеясь, что со временем положение изменится…
– И что ж теперь, Николаша? – нетерпеливо спросила Любочка.
Казалось, она слегка уже позабыла собственную обиду и теперь искренне сочувствовала действительно трудно выносимому, на ее взгляд, положению возлюбленного. Небольшие, но блестящие глазки женщины еще разгорелись, напоминая о завидевшем добычу куньем зверьке, чудесно очерченная верхняя губа мелко шевелилась.
– Теперь я понимаю, что Владимира Павловича все устраивает так, как сложилось, – горько сказал Николаша. – Его долг передо мной, с его точки зрения, исполнен. Я присмотрен, введен в круги. Сложившиеся обо мне слухи и репутация никак не могут его волновать, ввиду собственных его особенностей. Далее я, по его замыслу, должен крутиться самостоятельно, искать возможности…
– То есть, признавать тебя как сына и обеспечивать наследством он не собирается? – четко сформулировала Любочка.
– Очень похоже на то.
– Тогда что же мешает тебе сейчас жениться на мне и представить всем, как свою супругу?
– Но, Люба! Пойми же! – Николаша умоляюще сложил ладони. Видно было, что ему действительно не хочется говорить того, что его так настойчиво вынуждали сказать. – Что за странная получится партия? Записной «любовник» князя Мещерского вдруг женится и берет в жены – кого? Почему? Откуда? С какой стати, в конце концов? Если бы это был брак сугубо по расчету – из-за наследства или титула, – например, я женился бы на богатой вдове – это все поняли бы, и вопросов ни у кого не возникло. Но жениться на никому в Петербурге не известной… Кто ты по сословию, Люба, мне всегда было как-то недосуг спросить?.. Устроив свою семейную жизнь таким образом, я разом загублю все свои знакомства и всю складывающуюся карьеру, князь Мещерский тут же попросит меня выехать из его дома, из знакомых Владимира Павловича меня никто никуда больше не позовет… И на что, позволь спросить, мы будем жить в этом случае? Что вообще делать? Рука об руку вернемся в Егорьевск, станем кормиться из Васькиной милости? Но зачем тогда все это было?
– Вот оно, значит, как… – Любочка обожгла Николашу едким, словно концентрированная кислота взглядом (он невольно потер щеку, словно кожей ощутив ожог), отошла от него и присела на обитую синим бархатом козетку. – Здесь, значит, все шиворот-навыворот. Блистательный Петербург! Искренние чувства человеческие смотрятся бредом, а любой бред или даже преступление, пройдя через преломляющие свет болотные миазмы, становятся вполне понятной, складной и всеми одобряемой картинкой… Что ж. Мне следовало давно это понять, и более читать господина Достоевского, чем слащавых романов… Нынче я и вправду получаюсь тебя и твоего нынешнего круга недостойна. Только не по рождению или богатству, а по, так сказать, степени гнилостности души… Это, разумеется, требуется исправить…
– Люба! Что ты говоришь?!
– Прости, я размышляю вслух…
В ответ на свою оскорбительную для женщины (он не мог не понимать этого) откровенность, Николаша ожидал слез, истерики, может быть, даже попытки любовницы броситься на него с кулаками или ножом для разрезания бумаги (бурный темперамент Любочки был ему хорошо известен). Внезапная сосредоточенность и спокойствие Любы почти испугали его.
– Любочка, солнышко, я все время гадаю над тем, как все устроить…
– И как же, милый? – отстраненно поинтересовалась женщина, думая о своем и не собираясь того скрывать.
– Я тебе сейчас все расскажу, чтоб ты не думала, что я от тебя скрываю, – торопливо заговорил Николаша, старательно отводя взгляд от любочкиного лица, на котором происходили какие-то странные и, откровенно сказать, жутковатые видоизменения. – С кем мне еще и говорить откровенно, как не с тобой? Там… – мужчина махнул рукой за окно, в стремительно сгущающиеся сумерки. – Там все всем врут, и даже сами иногда не помнят и не понимают, как соврали… А я… Я, раз уж в Сибири вырос, так и хочу золото в Сибири добывать… Подожди! Сейчас я тебе все растолкую. Владимир Павлович, я уж говорил, в придворной камарилье не последний человек выходит. А царь дает своим людям, как бы за верную службу, концессии на разработку Кабинетских земель. Золото, медь, черные металлы. Как раньше дворянам деревни в корм давали, понимаешь? Кабинетские земли – это Нерчинский округ и Алтай, да ты то, наверное, сама с детства помнишь. Наш, Ишимский уезд к Кабинетским землям никогда не относился. Так вот, Владимир Павлович тоже может эти земли от государя получить, и как бы уже не получил. Но самому ему этим заниматься недосуг и ни к чему. Стар он, и все интересы его уже много лет вокруг Зимнего дворца крутятся. Что ему медь или хоть золото в Сибири?
– И что же, полагаешь, Мещерский тебе эту концессию за красивые глаза отдаст? – язвительно спросила Любочка. – Как-то это не согласуется с тем, что ты до того говорил…
– Разумеется, за так никто никому ничего не отдаст. Мир не на том с давних пор стоит, и дураком надо быть, чтобы того не разглядеть. Владимир Павлович хочет эту концессию с выгодой для себя продать. Тому, кто будет золотодобычей сам заниматься. Но в Сибири, да и вообще в России сейчас таких капиталов немного, чтобы можно было разом, в расчете на грядущие прибыли, в горно-добывающую отрасль вложить. Однако, есть еще Европа…
– И теперь твой Владимир Павлович метит выгодно перепродать доставшиеся ему кабинетские земли иностранцам, – опять точно и четко подытожила Любочка. – А что ж, уж и желающие есть?
– Он со мной на эту тему, зная мой интерес, говорит не особо, но окольными путями я знаю, что вроде бы есть. Англичане. Готовы учредить в Лондоне акционерное общество и…
– А отчего же в Лондоне?
– В том-то и дело, то-то я и пытаюсь Владимиру Павловичу втолковать. Надуют ведь англичане, не резон им в Сибири промышленность развивать. Легче так как-нибудь, через биржу денег срубить и в кусты. Ты и то поймешь, если поразмыслишь…
– Да уж, конечно, если даже такая дура, как я…
– Любочка, я вовсе не о том хотел сказать, не заводись, пожалуйста, лучше дослушай меня…
– Слушаю внимательно.
– Моему отцу, князю Мещерскому, по большому счету наплевать, что там в Сибири случится или не случится. Даже деньги, и то… На его век ему с лихвой хватит. Единственное, что его по настоящему занимает – власть, возможность вертеть колесо в ту сторону, в которую именно ему захочется. Я же как раз туда и мечу: как это так, какие-то англичашки вас того и гляди надуют?! Было ведь уже два аналогичных случая как минимум. На Лене вроде собирались золото добывать, и еще где-то на Урале – медь. Лопнули компании или уж там финансовые общества, как мыльные пузыри, а деньги в песок, или, точнее, в чей-то английский карман утекли. Так не лучше ли своих подобрать, которых хоть всегда увидеть можно, рукой пощупать, а как понадобится, так тою же рукою и за горло взять…
– Но ведь у тебя, Николаша, своих денег ни копейки нету. Или ты надеешься, что Владимир Павлович ссудит тебе?
– Как же, ссудит… Держи карман шире! В том-то и закавыка. Если я сумею сейчас деньги и людей отыскать, и соответствующее общество с потребным уставным капиталом сколотить, так уж, конечно, и сам в его совет войду и после внакладе не останусь. Понимаешь? Если дело выгорит, тогда я, наконец, богат и свободен. И ты – со мною вместе.
– Да если я тебе в нынешнем положении женою не нужна, потому что неровня, так уж после-то, когда разбогатеешь и освободишься – зачем? – резонно вопросила Любочка.
– Зачем? – Николаша почесал лоб и как бы не впервые задумался над этим вопросом. – Ну… я же люблю тебя и… Что ж ты про меня думаешь, я и благодарности не понимаю? Как ты для меня все эти годы…
– Да я уж не знаю теперь, что и думать… – Любочка покачала аккуратной головкой. – А только где же ты эти потребные капиталы отыщешь? Кого уговаривать станешь? И чем возьмешь?
– Есть мысли. Во-первых, Константин Ряжский. Он из промышленных кругов, толстовец и мистик, света, несмотря на свое вполне благородное происхождение, чурается, но за новое поле деятельности возьмется охотно, если обоснования будут достаточно вескими. Свободных денег у Ряжского не так уж много, почти все вложены в дело, но, если он на это подпишется, то, зная его деловое чутье, многие из общества, поменьше его масштабом и поглупее, тоже захотят поучаствовать. Другая фигура – Ефим Шталь…
– Брат Туманова?! С которым Софи…
– Да, да, тот самый, – быстро оборвал реплику женщины Николаша. – У Ефима как раз есть деньги, и довольно много. После смерти матери он фактически заморозил ее наследство и живет на то, что сам зарабатывает, занимаясь, вслед Константину, подрядами и играя на Бирже. Но психическая картина здесь, увы, вовсе иная. Ряжский имеет убеждения, любопытство к жизни, строит какие-то планы. Шталь же даже по виду похож на окаменелость, вроде тех, которые еще в Егорьевске отыскивал Коронин вместе с моим блажным братцем. Судя по всему, его вообще ничего не интересует и не заботит. Он живет как бы по инерции своего физического тела, и те, кто сталкивался с ним в делах, говорят, что потом им приходилось долго отогреваться, как тому мальчику, который в недобрый час повстречался со Снежной Королевой.
– Кай… – напомнила Любочка. – Он еще должен был сложить из льдинок слово «вечность»… А этот Ефим Шталь женат?
– Кажется, да, но я никогда не слышал о его браке ничего, что мне бы запомнилось…
– И как же ты собираешься привлечь этого Шталя, точнее, его деньги, к своим делам? Если его совершенно ничего не интересует, то… То он, скорее всего, даже не станет тебя слушать…
– Здесь у меня тоже есть кое-какие соображения, но мне не хотелось бы о них тебе говорить.
– Именно мне?
– Именно тебе.
– Тогда тем более скажи.
– Хорошо. Но, учти, что твое неодобрение моих планов не изменит… Так вот. У меня есть основания полагать, что, если я заявлю, что у меня есть свои, личные счеты к Софи Домогатской, которые я намереваюсь предъявить к оплате, то это не оставит его равнодушным. Он вступит со мной в контакт и…
– Николаша! А какие, собственно, у тебя могут быть счеты к Софи?! Ну, у Ефима Шталь, если судить по Софьиному роману, еще туда-сюда (хотя я вполне допускаю, что она все придумала). Но ты-то?
– Это все сейчас уже неважно, Любочка. Главное, что под эту марку Шталь согласится иметь со мной дело. Остальное – вопрос моей ловкости и сообразительности… И доброй воли князя Мещерского, конечно…
– Понятно, – протянула Любочка, и опять ее странно спокойная и неопределенная по знаку реакция почти напугала мужчину. – Что ж, планы у тебя обширные, это я теперь вижу… Мешаться в них мне не след. Ну что ж… Поглядим тогда, что из всего этого выйдет…
– Ты у меня умница, Любочка! – с чувством сказал Николаша, склонился и поцеловал сидящую женщину в напудренную щеку. – С тобою мне всегда говорить можно, а это дорогого стоит. Вот сейчас, здесь, разложил все, и самому стало яснее…
– Ну что ж, и то хорошо, – Любочка отвела взгляд. – Ты ужинать станешь?
– Стану непременно. Вроде бы и ел, а вот, отчего-то снова проголодался. От нервов, наверное. Вели подавать.
– Сейчас распоряжусь.
Любочка спокойно встала, не торопясь, вышла в соседнюю комнату и аккуратно притворила за собой дверь. Там, вместо того, чтобы пойти в коридор и кликнуть кухарку, она остановилась у этажерки с безделушками, взяла с полки металлическую статуэтку, изображающую лебедя с двумя лебедятами и, глядя прямо перед собой и плотно сжав губы, тоненькими изящными ручками уверенно посворачивала шеи всем троим птицам. Потом бросила изуродованную вещицу под стол и медленно улыбнулась себе в старинном, в тяжелой дубовой раме зеркале.
Близкая весна подступала из-за горизонта желтой лихорадочной зарей, наполняла воздух острыми запахами из каналов и подворотен. Ветер, тяжелый, как мокрая парусина, прилипал к окнам, и кому-то хотелось немедленно задернуть все шторы, а кому-то, наоборот – бежать через город к плоскому морскому берегу, смотреть и дышать.
Женщина, стоявшая в скудно освещенной комнате у окна, хотела как раз второго. Но была слишком пуглива и коротконога, к тому же страдала отеками, да и годы уже, честно сказать, были не те. Желтая полоска зари над крышами притягивала ее взгляд. Она щурила близорукие глаза, смаргивая выступавшие от напряжения слезы.
– Знаете, я ее уже почти чувствую, – сообщила шепотом, оборачиваясь, – она зеленая.
Подождала резонного вопроса «почему?» и, не получив его, протянула почти умоляюще, стискивая пухлые руки в тяжелых восточных перстнях и браслетах:
– Ирочка, до чего же вы странно на все реагируете. Не молчите, скажите что-нибудь. Когда вы так вот сидите молча, мне становится совсем не по себе.
Ее гостья играла с собаками, наклонившись с дивана. Три старые левретки, подернутые сединой, как солью, вертелись у ее ног, припадали на передние лапы, тявкали дребезжащим фальцетом. Женщина у окна стиснула руками виски:
– Прекратите! Милые! Ну, невыносимо же!
– Ксеничка, извините, – Ирен Домогатская вскинула голову, жестом показывая собакам, что – все, игр больше не будет. Хозяйка была старше ее почти вдвое, но обращения по имени-отчеству не терпела. Признаться, ей и «Ксеничка» не слишком нравилось, «Ришикеш Рита» звучало гораздо лучше, но – разве объяснишь Ирен? Молча улыбнется и пожмет плечами. Ладно уж, пусть зовет хоть так.
– Вы ведь про чистую энергию говорите, да? Она – зеленая?
Ксения кивнула, жалобно глядя на Ирен. Жалобно – потому что ей отчего-то было тяжело и неловко смотреть на эту молодую, высокую, тонкую девушку с тяжелой косой, уложенной над головой короной. Не красавица, да: слишком много резких углов, а Ксения любила плавные линии, – но так молода, и такая чистая кожа… и что ей, спрашивается, делать в Ксенином пыльном, безнадежно старом жилище?