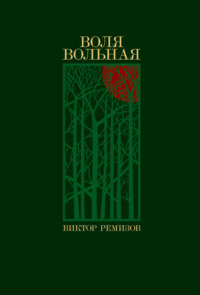
Воля вольная
– Если кто там чего, тебе или девчонкам… Скажи, Степан шкуру с живого снимет. Так и скажи. – Он сел на стул и стал наматывать портянки. – Деньги, дрова есть. Ничего. Буду появляться…
– Что случилось, Степа?
– Не знаю. Пусть они сами решают, что случилось, а я пока подожду.
Грубыми толстопалыми руками обнял Нину, стиснул неловко, не глядя в глаза, чтобы ничего в них не прочла, и вышел за дверь. Собаки, визжа, рвались с цепей. Степан наклонился к молодому Чернышу, но, подумав о чем-то, посмотрел на него, прижавшегося к ногам, отпихнул и отвязал старого. Карам рванул к тягачу и заплясал у двери. Степан, не обращая на него внимания, прошел огородом, зацепившись рюкзаком, протиснулся в узкую калитку и исчез в лесу. Следом в дыру забора мелькнули лапы и хвост собаки.
3
Генка поднялся в самые верховья Секчи. Места по соболю были неперспективные, полно каменных россыпей, куда надежно уходили зверьки, а кроме того, по верховьям ключей соболюшки делали гнезда, и Генка в таких местах капканов не ставил. Он поднимался выше зоны леса, поискать сохатых или северных оленей. Звери любили эти укромные склоны, на которых было чем покормиться и даже в июле почти не было гнуса.
Он еще не выбрался на грань леса, откуда можно было осмотреться в бинокль, и шел крутоватым склоном над ручьем, время от времени поглядывая вперед, сквозь редкие невысокие листвяшки. В рюкзаке приятной тяжестью болталась пара добытых соболей, и он думал, что если сработают третьего, надо будет ободрать всех, а то уже тяжело тащить. Он всегда так делал.
Присел на камень вытряхнуть сапог. Была середина дня, солнце низко висело где-то за горой, и в тени подмораживало. Генка поглубже надвинул лыжную шапочку, подтянул молнию куртки и стал перематывать портянки.
Юхта внизу темной ленточкой обвивала большие камни русла. Тальники по берегам, щетина листвяка на склонах – все облетело и осыпалось. Лес, скалы, осыпи, косматые зеленые стланики – все ждали снега. Генка с собаками тоже ждал – сразу все оживет и заговорит: прямыми лисьими строчками, волчьими нарысками по берегу в поисках аргыза, тяжелыми лосиными и оленьими вмятинами и наглыми, уверенными в себе несоразмерно крупными соболиными двойчатками.
Чингиз сидел рядом и глядел на далекую речку. И тоже, наверное, вспоминал их удачи и промахи там внизу. Айки не было. Не доев тушенку, Генка ковырнул ее ножом ото дна. Поставил Чингизу. Тот, благодарно махнув хвостом, аккуратно, как башку соболя, взял банку в пасть и, вежливо отойдя в сторону, стал есть.
И тут где-то на склоне выше их скал азартно заревела Айка. В другую сторону увала заорала – лай эхом несся по горам. Чингиз, бросив банку, уже мелькал в стланиках.
Генка поспешил к собакам, оббегал заросли, где-то продирался сквозь них, и с досадой думал, что это, скорее всего, самка. Он не охотился на верхах, где мамаши выкармливали молодняк. Даже в худые годы, когда соболя было мало или он плохо ловился, не делал этого… А тут собаки сработали.
Соблазн все же велик был – в первый день охоты соболя нельзя было упускать – весь сезон дырявый будет, но и самка, да еще в гнезде – тоже не лучший знак, видно. Генка бежал и просил кого-то, кого он всегда просил, чтобы это оказался молодой кот, да где-нибудь на дереве, чтоб видно было. Молодняк мог еще держаться недалеко от матери.
Генка не знал этого места. Соболь сидел в камнях, в небольшом острове курумника[7], крепко заросшем пушистым кедровым стлаником. Генка осмотрелся, обрезал кругом, ища выходы. Их, похоже, не было. Это было гнездо. Лаз хорошо спрятан кривыми стволами, никогда не увидеть, если бы не собаки. Он встал на карачки и, оттолкнув Чингиза, протиснулся под стволами. Соболь урчал и кидался где-то в глубине, у входа валялись перья куропаток, заячьи кости, помет. Айка, выходя из себя, копала сбоку под камень. Ей было неудобно, стланик мешал, она взвывала от отчаянья, что Генка первый доберется. Зверек так пах, что ей казалось – он уже у нее в пасти.
Генка еще раз обошел, прислушиваясь, что делается под камнями, потом сел рядом с лазом и терпеливо закурил. Нельзя было портить гнездо, может, конечно, это и не самка, но что-то подсказывало, нельзя. Чингиз подбежал к Айке, сунул нос в лаз между камнями и посмотрел на хозяина.
– Не будем трогать, она в следующем году опять принесет. А эта пусть покопает, она нашла.
– Айка, – позвал, собираясь похвалить-погладить.
Сучка не обратила внимания, выбралась из-под куста и побежала вокруг курумника с утробным лаем-воем.
Генка встал, отряхиваясь, взял карабин на плечо и пошел прочь. Странное было дело. Эту вот жизнь в тайге он с годами любил все больше и больше, а азарт терял. Не то чтобы азарт, но то, что раньше было. Он это точно знал за собой. Жадным никогда не слыл, но когда удавалось добыть больше других, а такое случалось часто, ходил довольный. Бывало, и хвастался по пьяни. Десять лет назад он, скорее всего, вырубил бы стланик у лаза и запалил дымарь. Самка не самка, раз уж собаки нашли – соболь, не хухры-мухры, за иным и три, и четыре дня ноги колотишь. А теперь вот – нет. И не то чтоб жалко было, но какое-то уважение пробрало к соболюшке. Хитро все устроила, не раз, видно, здесь котилась.
Спускался вдоль Маймакана. Звериная тропа, вместе с ключом петляя лиственничным лесом, неторопливо падала к Секче, а там по речке и до зимовья было недалеко. Генка не помнил, чтобы он здесь чего-то добывал. Соболь, правда, неплохо ловился в устье ручья, но ни сохатых, ни оленей ни разу не встречал. Хотя по ключу было несколько хороших марей, и он в первые годы сюда регулярно заглядывал. Проверял, но… бывает такое – пустое вроде, невзрачное место, а фартовое – все время чего-то встретишь! А бывает, как здесь – мари красивые, как раз на выстрел, скрадывать легко, а хрен.
На самой большой мари тоже ничего не было. Отдельный колок молодых, желтых еще листвяшек, замерших в середине, тянул длинную молчаливую тень по скучно притихшим облетевшим ерникам. Дятел где-то сыпал однообразную дробь, она глохла, вязла в низких кустарниках. Как заговоренная, подумал Генка. Он недолюбливал эту красивую марь за ее вечный обман, хотя и всегда сворачивал, когда случался рядом.
Собаки догнали. Покрутились вокруг и опять исчезли в тайге. Тропа была крепко замерзшей, Генка расслабленно шел под горку, устало бросая ноги. Весь сегодняшний день он строил в расчете на зверя – хотел запастись мясом. Особенно в верховьях ключа, где почти всегда добывал, все ждал… но ничего. Здесь же, ниже по ручью, шансов почти не было.
Генка недолюбливал этот беспутый час, когда день уже переломился, но вечер еще не наступил… Айка звонко, по-щенячьи взвизгнула недалеко впереди и тут же заорала без остановки. Генка замер. Чингиз работал коротко взбрехивая, сучка же гнала азартно и зло, Генка видел, как она мелькала… это был не соболь! По ручью росли старые тополя, лес просматривался. Он проверил карабин и встал за тополь, всматриваясь вперед.
Лай приближался. Генка волновался, боясь спугнуть нежданный фарт. На другом склоне ручья раздался треск, среди тополей и невысоких тальничков мелькали серо-коричневые тени. Приближались. Это был северный олень с двумя матухами.
Генка напустил зверей совсем близко, выцелил грудь передней и надавил спуск. Оленуха ткнулась в землю. Другая встала как вкопанная, а бык развернулся, опустил рога к земле и кинулся на Айку. Генка раз за разом выстрелил еще дважды, и рогач, пробежав несколько метров, завалился набок. Потом упала и вторая матка. Она еще держала голову и пыталась встать, ногами гребла в агонии… Чингиз бегал вокруг, не приближаясь, Айка же сначала опасливо рванула несколько раз за спину. Потом осмелела, забежала спереди и вцепилась в горло, давя к земле.
Генка подошел, добил оленуху и с любопытством посмотрел на свою сучонку. В поселке она была опасливой, а тут… Присел на корточки.
– Эй! – позвал.
Айка одним глазом косилась на зверя, другим – на Генку. Шерсть стояла дыбом. Генка протянул руку и тут же инстинктивно отдернул – в его сторону метнулись белые собачьи зубы.
– Ты что, дура такая, – рассмеялся, – все боишься?!
Айка пришла в себя, обернулась на голос хозяина, вся морда в оленьей шерсти, виновато прижала уши и тут же посунулась обратно к оленухе. Генка, довольный, облапил ее одной рукой, другой повернул кровавой мордой к себе.
– Да ты у меня хорошая, видать, собачка…
Олени очень нужны были, и он получил их за нетронутую соболюшку. Это было точно. Много-много раз такое бывало. Сделаешь по уму – получишь все что надо! Поленишься, а того хуже, нагадишь сдуру – забудь про фарт.
Большую часть дел в тайге Генка выполнял не задумываясь. Деды, прадеды и еще дальше – все так делали. И он выполнял то, что надо, не размышляя, правильно ли оно так, а может надо как-то по-другому, как выгоднее, например. Он не тратил времени на соблазны, на выгадывание каждого своего шага и так избегал суеты. Дело делалось размеренно, как будто само по себе, и оставалось время обдумать то, что действительно требовало размышлений. Так получилось и сегодня.
Генка наводил нож и высматривал три растущие рядом дерева – под биркáн[8]. Мясо надо было поднимать с земли и лабазить, чтобы по снегу вывезти на «Буране».
Вечером в зимовье Генка возился со шкурками соболей. Мех был уже выходной – верный знак, что зима рядом, вот-вот попрет, повалит. Грудинка оленья неторопливо кипела в котле, сам он покуривал, блаженно жмурясь от хорошего начала охоты. Получалось, не зря так рано заехал.
Некоторые только собираются, видно…
4
И точно. На другой день километрах в двухстах от зимовья Геннадия Милютина совсем другой охотник, не проснувшись еще толком, сел в кровати. Пошарил по привычке ногой по полу. Тапочек не было. Как и вообще мало чего было в этом недавно купленном домике на краю поселка, вытянувшегося вдоль морской косы. Смяв задники, сунул ноги в кроссовки, встал, потянулся, подумал мельком, что спал всего три часа, и пошел умываться. Полшестого уже было, мужики могли вот-вот объявиться.
Москвич Илья Жебровский только заезжал на участок. Вчера до трех ночи сверял аккуратные, распечатанные на компьютере списки, что в каком ящике лежит и какая укладка в какое зимовье идет. Вычеркивал что-то, дописывал, глядел внимательно внутрь последнего алюминиевого ящика с самыми ценными вещами. Ящики были прочные, хорошо увязывались в нартах. Жебровский целую неделю так собирался, а больше волновался приятным волнением, воображая себя в тайге.
Он и теперь нервничал, ожидая чего-то важного, не дочистил толком зубы, сполоснул рот и, накинув куртку, вышел во двор. Совсем рядом, в пятидесяти шагах чуть слышно поплескивались мелкие волны лимана, само же море, будто замедленное темнотой ночи, глухо накатывало на берег с другой стороны косы. Илья прислушался. Не гудит ли с вечера загруженная машина, на которой дядь Саша уехал ночевать к себе домой.
Тихо было в мире и отчего-то, может от бескрайнего ледяного океана за домом, слегка тревожно. Там, в горах, на его участке в этот предрассветный час было еще тише. И спокойнее. Там все зависело от него. Сердце опять заколотилось радостным страхом, Илья нахмурился, заставляя себя уняться, откинул тент. Все было на месте. 120-сильная «Ямаха» посверкивала в свете фонаря новенькими черными боками. Нарты были тоже новые, оранжевые, в четырех местах со свежими язвами сварки. Колька Поваренок уголок подваривал для прочности.
В прошлом году часть снаряжения у него было не очень удачным. И вот теперь Илья хорошо все продумал, и ему не терпелось в тайгу. Он хмурился, отгоняя мысли об охоте, но они все равно лезли и владели им, и он заставал себя стоящим среди комнаты с ведром воды в руках и улыбающимся в далекое, залитое солнцем, заснеженное пространство гор.
Жебровскому было сорок восемь. Невысокий, сутулый, смуглолицый и кареглазый, с небольшими редкими усиками. Илья внешне не был сильным, но внутренняя крепость или даже жесткость ощущалась довольно ясно. Для промыслового, впрочем, охотника он выглядел слишком интеллигентно. Любой сразу бы сказал, что он не местный. Глядел спокойно, чуть изучающе, говорил мало и по делу, и только выпив, мог не сдерживать эмоций, что и выдавало внутреннее напряжение.
Он был вполне состоявшийся мужчина, в том смысле, что у него было много всего. Этот вот домик на берегу Охотского моря. Два его почти взрослых сына пятый год учились в Англии, по-русски говорили с легким акцентом и жили в его большом доме в предместье Лондона. В Москве на Гоголевском бульваре жила жена Ильи. Был еще приличный подмосковный дом, где сейчас, кроме прислуги – жена не любила загорода, – никого не было. Все эти квартиры, дома, дорогие вещи и машины он заработал более-менее честно, и его благополучию многие завидовали. Но иногда жизнь ставит перед людьми странные, нелепые как будто вопросы. Не перед всеми, конечно.
До поры бизнес очень увлекал Илью – у него был банк средней руки, – и все шло неплохо, и жить было интересно. Но с какого-то времени он очень ясно, прямо физически начал ощущать, что чем больше у него становится денег, тем меньше остается жизни. Менять жизнь на деньги было как минимум неумно, особенно когда денег достаточно… Для чего достаточно, Илья не знал, – возможно, это и было главной проблемой. В его окружении этого не знал никто, только улыбались снисходительно на его нелепые нетрезвые вопросы безо всякого желания понять или пускались в отвлеченные умствования, что примерно то же самое.
Говорят же, что думать вредно; так оно и есть, видно. Весной прошлого года Илья Жебровский продал весь бизнес. Не особо выгадывая, недорого и вообще не придавая этому значения. Лето провел довольно безалаберно, следуя сиюминутным, иногда довольно мелким желаниям и не особо понимая, что делать с собственной свободой. Так птичка, выпущенная из клетки в большой комнате, кружится растерянно, перелетает с места на место, то вдруг засвистит от радости, а то замрет, совершенно не понимая, что это все значит и как ей быть. Временами Илье казалось, что напрасно он все это затеял, но и обратного пути уже не было.
Он решил ехать на большое сафари в Африку, где бывал не раз. Купил самый дорогой тур в Танзанию и начал уже собираться, как случайно, на дне рождения приятеля зашел разговор о соболином промысле в осенней тайге – кто-то когда-то по молодости этого пробовал… Жебровский вернулся домой, просидел несколько дней в интернете и ясно почувствовал, что очень хочет. Без Professional hanter[9], без черных следопытов, прислуги и повара… Один на один с тайгой. Так он оказался на Дальнем Востоке.
Не было никого, кто бы его понял. Людям, даже и близким, не очень свойственно серьезно задумываться над чужой жизнью. Даже товарищи по элитному охотничьему клубу морщились недоверчиво, все решили, что временная прихоть. Он и сам не исключал такого, но вот прошел год, и Илья опять был здесь, в поселке Рыбачий.
Одиночество в тайге – крепкая отрава, однажды ее хлебнувший, если он чего стоит, не может уже отказаться, а отказавшись поневоле, страдает, как о невозможной, невосполнимой потере в жизни. По сути, это конечно же была городская блажь, но в тайге и один Илья чувствовал себя по-настоящему свободным. В этот раз он взял с собой музыки и книг, чего не хватало в прошлый сезон. Все остальное для полноценной жизни на его промысловом участке было.
Дядя Саша приехал в семь. Долго ревел мотором в предрассветном узком проулке и наконец, зацепив угол соседского забора, загнал «Урал» прямо во двор.
– Здорово, охотник! – Довольный, грузно слез с высокой подножки. – Кофейку врежем на дорожку!
«Александр Иванович Гусев» – так у дядь Саши было написано в паспорте, но и дети и старики в поселке звали его просто дядь Сашей, а многие и не знали, что он Гусев, – был под метр восемьдесят. Мощная, волосатая и вечно распахнутая грудь, руки, от одного вида которых становилось спокойнее на душе. Такими руками, казалось, можно и «Урал» за передок поддомкратить. Лицо красноватое, в шрамах, с седыми кустами бровей и усов. Глаза серые, смотрели умно и спокойно с чуть хитроватым, озорным прищуром.
Он был бригадиром рыбаков, трезво и глубоко любил свою работу, море, молоденькую жену и старый «Урал», на котором ездил по Рыбачьему, как на легковушке, на нем же и подрабатывал, когда не было рыбалки. К дядь Саше в поселке прислушивались, потому что он был человеком правильным. Ничего его не меняло: ни деньги, ни горе, ни водка.
Дядя Саша вошел, не слушая протестов Жебровского – «все равно грязно», кряхтя, снял у порога кирзачи с завернутыми верхами и смятые пижонской гармошкой. Поддел пальцем единственную пуговицу камуфляжной куртки, натянувшейся на пупе. Под ней была только рубашка. Ни свитера, ничего…
– Садись. – Илья кивнул на стул и включил чайник. Тот был теплый и сразу засипел. – А Николай где?
– Поваренок-то? – Дядь Саша взял из пакета карамельку, развернул и засунул в рот. – По дороге заберем, пусть со своими понянькается. У него младшему полтора года. Что за ружье? – кивнул на дорогой кожаный чехол, из которого торчал приклад. – Можно?
– Штуцер. Нижний ствол на птичку и на соболя, верхний – на крупного зверя.
Дядь Саша достал изящное, почти игрушечное в его руках оружие, отодвинув от глаз, рассмотрел гравировку и стал аккуратно укладывать обратно в чехол. Даже не прицелился, как это сделал бы любой охотник.
– Специально заказал, – пояснил Жебровский, – в прошлом году приходилось и ружье, и карабин таскать.
– А я вожу в кабине двенадцатый калибр, да патронов, кажется, нет… – Дядь Саша задумался. – Потерял, что ли? Не знаю, где засунул.
– Как же в тайге без оружия?
– А чего?
– Мало ли… сломаешься, есть нечего…
– Да-а, – засмеялся глазами дядь Саша, – рыбы где-нибудь найду. Ее скорее поймаешь…
Жебровский заварил чай, поставил кружки на стол:
– Что думаешь? Дня за два, за три доедем? – Илья плохо представлял себе дорогу, в прошлом году он залетал на вертолете, чем вызвал пересуды у охотников. Вертолет стоил таких денег, что никаких соболей не хватило бы окупить.
– Чего загадывать… – дядя Саша отхлебнул из кружки, – непогода врежет, и забичуем где-нибудь в Эльчане у эвенов.
– Завалено здорово?
– Не знаю, до развилки чисто, дальше, если через Генку Милютина ехать, то до середины Юхты пропилено… Если через Кобяка, там перевал выше, там не знаю. У Кобяка вездеход, должен был пропилить.
– А нельзя у Кобяка узнать? – Илья уже просил об этом и Поваренка, и дядь Сашу, и теперь досадовал, что они не узнали.
– Что-то нет его, может заехал уже на участок… Поедем, что ли? Там видно будет. – Дядь Саша направился к двери.
Они закинули в кузов «Урала» два ящика, загнали по наклонным доскам «Ямаху», остальное было загружено еще вчера. Дядь Саша с грохотом закрыл борт, крутанул запор и шлепнул по борту рукой. Такая у него была примета: шлепнешь – так же весело открывать будешь.
Илья взял карабин, рюкзачок с термосом и документами, вывернул пробку из счетчика и вышел на улицу. Постоял, мысленно прощаясь с домом до Нового года. Он волновался. Не так уже, конечно, как в прошлом году, но все-таки – один в тайгу, на три месяца. Ночью ему не к месту, предательски снилась удивительно приятная Москва. Вечер в центре города, много огней, людей, они с женой выходят из малого зала Консерватории и думают, в каком сесть ресторане…
В «Урале» на двойном пассажирском сиденье был расстелен вытертый до кожи тулуп, Илья перекрестился мысленно, прошептал про себя «Помогай, Господи!». Дядя Саша об этом же задумался, глядя на мертвую доску приборов, потом решительно вставил ключ. Обоим хотелось в тайгу. Жебровскому понятно почему, а дяде Саше, как всякому бродяге, в дороге всегда было хорошо. Особенно когда ничего про эту дорогу неизвестно – деревьями, скорее всего, завалена, и снег в верхах уже мог быть глубоким. В одну машину стремно было ехать, и одно это уже волновало и радовало. Господь не выдаст…
Завел мотор, погазовал, воткнул передачу и тронулся, выворачивая из ворот. «Урал» медленно вписывался и наполовину уже выехал, как что-то вдруг начало скрежетать внизу. Дядя Саша передернул рычаги, надавил на газ, мотор ревел, машина тряслась и двигалась толчками. Дядь Саша выругался и полез из кабины.
– Передний мост, падла, рассыпался… – выбрался он из-под машины, скребя могучей пятерней седой лохматый чуб.
Дядя Саша ждал этой беды, в кузове у него был запасной мост, теперь, правда, барахлом заваленный. Набрал в телефоне Мишку Милютина. Потом вызвал Поваренка.
К обеду ясно стало, что сегодня не выехать, конца не видать было. Вместе с мостом надо было менять еще что-то, Поваренок обзванивал мастерские и корешей в поисках нужных сальников и рычагов. Жебровский сначала пытался вникать, потом просто сидел рядом на ящике, скучая и покуривая. Дядь Саша тоже особо не лез, работой молча управлял высокий и худощавый Мишка. В полдень Илья принес мужикам очередной термос с кофе и ушел в дом.
После столицы он небыстро привыкал к местным темпам, прямо заставлял себя спокойнее относиться и терпеть это другое течение времени. Улыбаться даже себе велел… только как тут было улыбаться, когда вместо тайги он полдня уже обозревал родимые пятна милой родины. Нанять другую машину тоже было нельзя, его бы здесь не поняли, да, наверное, никто и не поехал бы.
Илья поставил вариться макароны, открыл тушенку, от нечего делать, а скорее от охотничьего зуда в руках, достал штуцер. Новое оружие благородно поблескивало аккуратными стволами и дорогой ложей с замысловатыми рисунками орехового дерева. Вспомнил, как ездил за ним в Австрию, как пробовал там на стрельбище при мастерской – пуля в пулю ложились. Работа была штучная, ему надо было к сентябрю, и австрияки все сделали в срок и нигде не отступили от своего качества, которое они выдерживали веками.
Мастерская была семейная, располагалась в горной австрийской деревушке, седоусый старик-отец работал с двумя взрослыми тоже усатыми сыновьями. Когда Илья приехал за оружием, они собрались все, приодетые, выпивали горьковатую домашнюю настойку из маленьких стаканчиков, покуривали и посматривали на свою работу и на довольного клиента.
Илья вскинулся, целясь в заплесневевший угол комнаты, щелкнул бойками, еще раз взвесил в руках сделанное по нему оружие и с благодарностью вспомнил неторопливых и уважающих себя австрийцев. Потом подумал о русских, менявших сейчас развалившийся мост на еще не развалившийся. Шило на мыло. И на этом мосту они собирались одолеть полтысячи верст по заваленным зимним увалам через Джугджур и Юдомский хребет.
Приеду, сначала пройдусь по речке, рыбу гляну. Потом оленей посмотрю на склонах, потом капканы уже, прикидывал Жебровский. В прошлом году, в самом начале, он, не зная дорог, полез в одном месте прямиком по густым стланиковым зарослям и спящему зверю чуть на голову не наступил. Медведь, возможно он укладывался на зиму, подскочил метрах в десяти и с уханьем рванул вниз по склону. Илья застыл с бешено колотящимся сердцем. Вокруг поднимались безучастные к нему горы, большое стланиковое поле, в середине которого он стоял на кривом качающемся стволе, молчаливо колебалось под ветром. Он даже не медведя испугался, но того, что был там один. Случись что, его никогда не нашли бы в тех дебрях. Почти бутылку виски усидел в тот вечер, отбиваясь от внутренней паники. Через неделю только привык и перестал озираться и приглядываться, да и медведи залегли.
Жебровский сидел на шатучей, готовой развалиться табуретке, в который раз уже думая о том, что надо ее починить, и смотрел в окно. Было девятое октября. С утра солнце немного побаловало, потом натянуло вынос с моря, и полетел снежок. В окно было видно дядь Сашу. Он стоял без шапки, в так и не застегнутой куртке, из-под которой торчала красная от холода, седая грудь. Что-то говорил Мишке, лежащему под мотором. Ноги, руки, тяжелые плечи – все в дядь Саше было мощно. Двигался при этом он легко и решения принимал быстро.
Илья взял сигареты и вышел на улицу. Дядь Саша ворчал за что-то на Мишку. Видно было, что это для порядка, что он на самом деле и любит, и уважает своего, как он называл, крестника. Это он однажды «доверил» Мишке напрочь убитую, несколько раз тонувшую 150-сильную «Хонду» с бригадного катера. Никто не верил, что ее вообще можно починить, даже ходили смотреть на эту «Хонду», слушали, как работает. Мишке тогда было пятнадцать лет. «Хонда» весила больше, чем он, раза в три. Теперь Мишке Милютину шел семнадцатый, он был длинный, вполне похож на взрослого мужика (только не пил), и у него был свой автосервис. То есть мужики привозили Милютиным во двор негодное и потом на этом негодном уезжали.
Дядь Саша был бродяга в душе, и судьба его, как и всякого, видно, бродяги, была непростой. Жебровский знал ее по рассказам других, обрывками. Слышал, что три года назад, весной, убили младшего сына дядь Саши – Сашку. В тот день Сашка вернулся из армии. В кафе дело было, куда он никогда не ходил, а тут пошел в сержантской форме с дембельскими аксельбантами. Один прыщавый, на голову ниже Сашки, курнув дряни, пырнул ножом. Весь поселок хоронил. Сашка был красивый, трезвый и в жизни никого не обидел. Он и в этот день не пил почти и ни с кем не ссорился. Пырнули его по полной дури, может за то как раз, что был такой красивый, непьющий и беззлобный. Его ударили ножом, а он только морщился, улыбался растерянно и виновато, зажимая рукой расплывающееся кровавое пятно.

